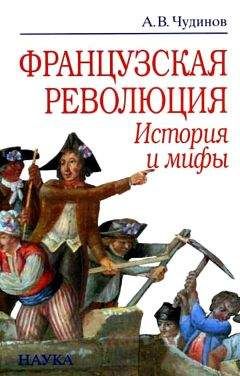Александр Гриценко - Антропология революции
Новизна этого политического текста и самого политического мышления Струве состояла во взгляде на политические позиции как на результат процессуального взаимодействия между политическими силами, действующими в объективно полагаемой социальной среде. Логика политического письма, представленная в этом памфлете, не была основана на простой дедукции политического суждения из комплекса предустановленных политических и моральных ценностей — хотя именно такая дедукция была характерна для политического языка русского народничества.
Необходимо также обратить внимание на то, что политический прогноз Струве рисовал картину разновекторного и многовариантного развития в будущем; он не содержал привычных для русского политического мировоззрения предсказаний всеобщей апокалиптической или очистительной перемены.
Идеологическое вмешательство Струве в процесс формирования политической оппозиции самодержавию стало важным поворотным пунктом в истории радикализации российского общества. Оно показало, что для близившейся фазы политического кризиса необходимы новые политическое воображение и язык[191]. Успех письма Струве представлял разительный контраст другим попыткам ответа Николаю II из среды либеральной оппозиции. Примечательно, что Владимир Соловьев так и не смог вовремя завершить начатый по просьбе Родичева черновой набросок письма к Николаю II, а версия ответа, написанная самим Родичевым[192], не смогла привлечь такого же внимания, как письмо Струве.
Помимо землевладельцев, составивших костяк Союза земцев-конституционалистов, была и другая группа земских активистов, чей социальный статус определялся профессиональной, а не сословной принадлежностью. Эта группа состояла из людей с высшим образованием, которые в эпоху политической демобилизации и апатии, последовавшей после убийства Александра II и провала, казалось бы, «надвигавшейся» в начале 1880-х годов революции, обратились к этическому учению Льва Толстого. Комбинация программы морального самоусовершенствования и «малых дел» привела эту группу молодых людей к профессиональной работе в земстве. Это позволило им впоследствии организовать связь между городской интеллигенцией и земским движением[193].
Участник Приютинского братства князь Дмитрий Шаховской был одним из представителей этого движения, в котором соединялись поворот к этическим ценностям и общественный активизм. Шаховской оказался важным связующим звеном в объединении сил, впоследствии составивших партию кадетов, в период между созывом Особого совещания по нуждам сельскохозяйственной промышленности (1902) и октябрем 1905 года. Несмотря на то что он занимал центральное место в формировании Конституционно-демократической партии, его политические взгляды можно охарактеризовать как гуманистический социализм, а его политические предпочтения были связаны с широко понимаемой просветительской и культурной работой[194].
Историки российского либерализма уже писали о том, что лидерство в освободительном движении постепенно перешло от землевладельцев к интеллигенции, и о том, что в конце XIX века граница между земцами и интеллигенцией как социальными группами оказалась размыта[195]. Однако исследователи не принимают во внимание, что в это же самое время среди российских профессиональных и культурных элит шли быстрые процессы дифференциации и фрагментации. Так, например, члены Приютинского братства в годы существования Государственной думы демонстрировали явно иное отношение к партийной политике и были намного более склонны к политической демобилизации и признанию первоочередности «органической, культурной работы», чем те, кто, подобно Павлу Милюкову, разделял позитивистский взгляд на роль социального знания в обществе и не был согласен с анархическими взглядами Толстого. Риторика индивидуального самосовершенствования, характерная для членов Приютинского братства, была вполне совместима с моралистическим подходом к политической и социальной жизни, свойственным поколению эпохи Великих реформ[196]. Политические взгляды Льва Толстого гармонировали с особым духом земства, которое энергично защищало свой общественный статус в противовес идее бюрократической централизации.
Случай Приютинского братства демонстрирует еще одну проблему, порожденную неприязнью участников растущего политического движения к термину «либерализм». Поскольку понятие либерализма на рубеже XIX–XX веков ассоциировалось с либеральной идеей в интерпретации середины XIX века, то есть с надеждой на участие государства в социальном и культурном развитии, — его было трудно совместить со взглядами земства на общественное служение, тесно сплетенными с анархическими тенденциями и моралистическим мировоззрением[197].
РОССИЙСКИЙ ЛИБЕРАЛИЗМ И СВОЕОБРАЗИЕ ЭПОХИ МОДЕРНАЕсли учесть, что российские «либералы» были людьми самых разных интеллектуальных ориентаций, социального статуса и поколенческого опыта, довольно парадоксальным — а не само собой разумеющимся — окажется тот факт, что в итоге они все-таки согласились участвовать в общем политическом «освободительном» движении, которое позднее преодолело либеральную афазию и сформировало либеральную политическую партию конституционных демократов. Эта партия сохраняла единство вплоть до Гражданской войны, несмотря на то, что ей много раз предсказывали распад.
Новизна и сложносоставной характер российской либеральной альтернативы начала XX века в ее партийно-политическом измерении становятся особенно заметны, если обратить внимание на то, какой расплывчатой и противоречивой была позиция кадетской партии в тогдашнем политическом процессе[198]. Важно, что эта расплывчатость была частью намеренной и сознательно проводимой стратегии, а не следствием политической наивности организаторов новой партии[199]. Программа постепенной политической эволюции, осуществляемой посредством законодательных реформ (выраженная в законодательных инициативах и в платформе партии)[200], не помешала кадетам занять жесткую конфронтационную позицию во время первых выборов и работы Первой Государственной думы, деятельность которой завершилась, как известно, подписанием Выборгского воззвания. Зависимость кадетской партии от ограниченной социальной базы — имущих городских слоев и пестрой «чересполосицы» разного рода организаций профессиональной интеллигенции и земских кругов — прямо противоречила попыткам кадетов создать массовую политическую партию, которая могла бы включить в себя еще и рабочих, крестьян, а также представителей нерусских национальностей[201].
Осознание объективности идеологического расслоения и размежевания политического поля поздней Российской империи было едва ли совместимо с миссией, принятой на себя кадетами, — дать общее «политическое образование» российскому обществу. Эта миссия противоречила деятельности партии, направленной на выработку определенного политического лица, и основывалась на ошибочном отождествлении политики и науки. Наконец, существовал острый конфликт между, с одной стороны, кадетской теоретической концепцией политики как инструмента культурных и социальных преобразований, которые привели бы к формированию сознательного гражданского общества и современной нации, объединяющей людей поверх социальных и этнических границ, и, с другой стороны, реальной практикой кадетской агитации в контексте массовой политики: для этой агитации была характерна эссенциализация границ социальных и национальных групп[202].
Для полного рассмотрения расколов и противоречий в истории Конституционно-демократической партии необходимо учесть роль идеологии и политического языка в процессе создания нового российского либерализма и формирования партии как когерентной организации.
Важность этих факторов в формировании российского либерализма отметил не кто иной, как Макс Вебер. Проведенный одним из создателей политической социологии анализ революции 1905 года (статья «Zur Lage der bürgerlichen Demokratie in Rußland» — «К положению буржуазной демократии в России») вплоть до настоящего момента оставляет исследователям плодотворные возможности для дальнейшего осмысления[203].
Историки часто отмечают, что исследование Вебера стало точным предсказанием поражения российского либерализма в его кадетском изводе, произошедшего из-за слабости либералов в условиях конфронтации с правительством, скудной социальной базы либеральной политики и противоречивого отношения к национальному вопросу[204]. Однако мало кто замечает, что интересу Вебера к русской революции предшествовали его общие размышления о катастрофических последствиях рационализации в модернизирующемся обществе для идеи свободы[205]. И тогда представляется, что симпатия Вебера к «особому способу политического мышления несравненно способных и идеалистически настроенных русских патриотов»[206] была составным элементом его общей склонности — видеть в русской «идеалистической и радикальной политике» модель преодоления кризиса либерализма на передовом Западе.