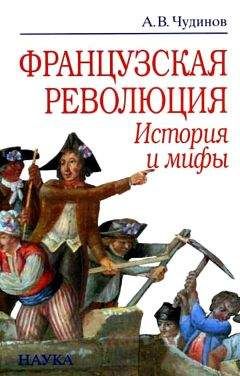Александр Гриценко - Антропология революции
Неадекватность образа либеральной альтернативы как исторической данности в период революции 1905 года станет понятной, если принять во внимание употребление понятия «либерализм» в языках самоописания политических акторов и в происходившей между этими акторами полемике. Несмотря на последующие интенсивные дискуссии о том, была ли Конституционно-демократическая («кадетская») партия либеральной и что это вообще значит — быть либеральной партией[182], — первоначально оба основных социальных элемента этой партии, круги интеллигенции и участники земского движения, всячески избегали употребления термина «либерализм» для обозначения своей политической позиции. К концу XIX века в сознании большинства российских интеллигентов этот термин ассоциировался с консервативной позицией середины XIX века, представленной взглядами Бориса Чичерина или, например, Константина Кавелина и Ивана Тургенева в их полемике против Александра Герцена и «нигилизма»[183] — потому что для характеристики своих воззрений понятие «либерализм» использовали именно Чичерин и Кавелин. Не случайно Владимир Бурцев и Сергей Степняк-Кравчинский, инициаторы примирения между разными лагерями русской политической эмиграции, не включили тексты полемики Кавелина и Тургенева с Герценом и «нигилистами» в свой проект библиотеки исторической памяти, — проект, на основе которого должна бы строиться новая эпоха в истории российской политики[184].
Отрицательные и иронические коннотации понятия «либерализм» во второй половине XIX века были представлены и популяризированы в литературе такими мастерами сатиры, как Михаил Салтыков-Щедрин и Николай Некрасов[185]. Русская литература этого периода, которая занимала весьма важную позицию в интеллектуальной и политической жизни, распространяла негативный образ либерализма как мировоззрения неискреннего, лицемерного и эгоистичного. Это представление было подхвачено в широкой среде «прогрессивной» общественности, в которой как раз и происходила политическая мобилизация перед революцией 1905 года.
Такая исторически обусловленная семантическая ситуация помогает объяснить, почему интеллигентские идеологи сначала откровенно избегали термина «либерализм» для самоописания, а потом использовали это слово без особого энтузиазма.
Учет этих отрицательных коннотаций проливает свет и на причину того, почему левые оппоненты нового политического движения в начале XX века употребляли ярлык «либерализм» для обозначения своих оппонентов куда более интенсивно, чем те сами делали это, указывая на собственную позицию. Среди примеров прямого обозначения земских деятелей или связанных с ними групп интеллигенции как «либералов» можно вспомнить известные полемические статьи Ленина, направленные против объединенного фронта в борьбе за свержение абсолютизма, и обращенные к «либералам» призывы Троцкого занять более радикальную и демократическую позицию[186].
Круги земских активистов, которые исторически оказались надежной базой для создания либеральной партии, также избегали самоописания в идеологических терминах, хотя и не вполне разделяли пренебрежительное отношение к консервативной позиции «либералов» эпохи Великих реформ. Земские деятели, составлявшие ядро политической оппозиции в России, делились на тех, кто склонялся к идее конституции, и тех, кто тяготел к консервативной идее сохранения независимости местного самоуправления; второе движение возникло в результате политики Александра III и Николая II, направленной на ограничение деятельности земства.
Лозунг конституции дал имя подпольно организованному в 1903 году Союзу земцев-конституционалистов, который вместе с более консервативным кружком «Беседа» создал основу для объединения политически активных элементов земства[187]. До этого времени особенности института самоуправления в России и настроение эпохи «малых дел» препятствовали открытой политизации и идеологизации в земской среде. Хотя политическое размежевание в учреждениях местного самоуправления уже стало явным и за голосованиями в земских собраниях легко можно было увидеть определенные «партии», эта дифференциация не подразумевала апелляции к идеологически оформленной системе взглядов, которую можно было бы определить термином «либерализм»[188]. Даже земцы-конституционалисты из кружка Ивана Петрункевича избегали политических обобщений и предпочитали язык, «освященный обычаями», как было в случае с адресом Тверского земства, поданным на высочайшее имя в 1894 году. В этом документе идея конституции была легитимизирована с помощью фразы о «служении царя русскому народу», на которой особенно настаивал Родичев, так как слова о «служении» были частью коронационной молитвы за государя[189].
Это уклонение от идеологической определенности привело к тому, что земцы потерпели явный провал, когда попытались отреагировать на отповедь Николая II. Последний российский император в своей речи 17 января 1895 года перед делегатами от земств, дворянства и некоторых городов призвал слушателей оставить «бессмысленные мечтания… об участии представителей земств в делах внутреннего управления» и заверил их, что он «будет охранять начало самодержавия так же твердо и неуклонно, как охранял его [Александр III]». Фраза о «бессмысленных мечтаниях», как и слова Столыпина о «великой России», стала символом эпохи начала XX века в России, что само по себе свидетельствует о появлении в этот период новых политических механизмов, которые в большей степени ориентировались на словесные и языковые формы политического действия.
Вместо Федора Родичева, который был соавтором адреса Тверского земства на высочайшее имя, ответ на речь императора — «Открытое письмо к Николаю II» — написал Петр Струве[190]. Письмо было распространено как анонимное воззвание 19 января 1895 года. Сочинение Струве — шедевр риторического «переворачивания» аргументации оппонента и манифестация нового для России понимания политики, и поэтому оно требует более внимательного рассмотрения.
Струве интерпретировал речь Николая II как его самую большую политическую ошибку, поскольку она связывала образ монархии с артикулированной и недвусмысленной идеологической позицией и лишала монархию привлекательного образа власти, стоящей над всеми социальными и политическими границами: «До сих пор Вы были никому не известны; со вчерашнего дня Вы стали определенной величиной, относительно которой нет места „бессмысленным мечтаниям“». Струве переложил на Николая II ответственность за первый шаг в политической конфронтации, когда «наиболее передовые земства и земцы настаивали или, вернее, просили лишь о единении царя с народом». Далее автор «Открытого письма…» провозгласил, что сказанная фраза не является случайной: она раскрывает целую систему, в которой за самодержавием стоит «ревниво оберегающая свое всемогущество бюрократия», чьи интересы идут вразрез с интересами и упованиями всех групп общества, «сколь бы лояльными… к трону» они ни были. Далее Струве обращает внимание на то, что идеологическая программа, выраженная в речи императора, полностью противоречит правовым установлениям Александра III, который смотрел на земства как на «необходимого участника и орган внутреннего управления». Таким образом, монарх, по Струве, оказывается главным революционером, «бросающим вызов» установленному государственному строю.
Подлинная сила этого ответа и новое понимание политики были заключены в «научном» анализе ситуации, за которым следовал и определенный прогноз. Струве стремился оценить реакции разных слоев общества на речь Николая II. Он пришел к выводу, что такая отчетливая идеологическая программа ограничения любых общественных инициатив может вылиться в дальнейшую поляризацию и мобилизацию общества: «Верьте, что и на самых мирных людей такое обращение могло произвести только удручающее и отталкивающее действие… Правда, своей речью Вы усилили полицейское рвение тех, кто службу самодержавному Царю видит в подавлении общественной деятельности, гласности и законности». Струве предположил, что политическая борьба будет развиваться в двух направлениях. Первое виделось как «мирная, но упорная и сознательная борьба за необходимый [для живых общественных сил] простор», второе же неизбежно будет исходить из «решительности бороться с ненавистным строем всякими средствами».
Новизна этого политического текста и самого политического мышления Струве состояла во взгляде на политические позиции как на результат процессуального взаимодействия между политическими силами, действующими в объективно полагаемой социальной среде. Логика политического письма, представленная в этом памфлете, не была основана на простой дедукции политического суждения из комплекса предустановленных политических и моральных ценностей — хотя именно такая дедукция была характерна для политического языка русского народничества.