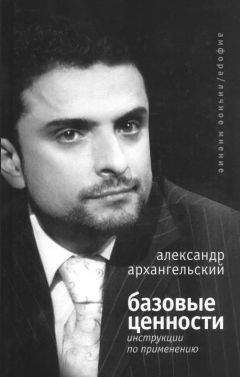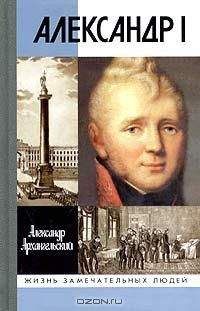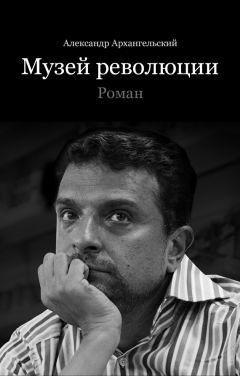Александр Архангельский - У парадного подъезда
Но спасение утопающих — дело рук самих утопающих. И нет сомнений, что пришел наш черед заступать на эту труднейшую вахту. Промедление смерти подобно. Сомнения в другом: стоит ли придавать такое значение происходящему; стоит ли объявлять в связи с этим боевую готовность № 1? Действительно ли хоть что-то изменится в корне, если «Советский писатель» начнет выпускать то, на чем специализировались «YMCA-Press» и «Ардис»? Если «Новый мир» будет печатать то же, что и «Вестник русского христианского движения», а «Наш Современник» — то же, что и «Посев»?.. Расхожее мнение говорит: да, изменится, потому что откроется широкий доступ к «закрытой» литературе.
В реальности же все обстоит наоборот.
Именно с точки зрения доступности культурной информации кардинальных перемен нет и быть не может. А вот с точки зрения внутреннего самоощущения мыслящей части советского общества, и в первую очередь тех, кто всегда был вхож в Сезам потаенной культуры, — перемены глобальны и спасительны.
Попробуем «размыслить» высказанный парадокс, имеющий самое непосредственное отношение к вопросу о том, какими вступаем мы на новый для себя путь.
Настоящий, тотальный запрет означает полное, последовательное и бескомпромиссное отчуждение запрещаемого. Ни отливов, ни приливов, ни ужесточений, ни послаблений для истинно запретительной политики не существует. Строго говоря, полностью под это определение, не попадает даже сталинская эпоха, она лишь приближается к «отрицательному идеалу» маоизма времен культурной революции, или Германии времен книжных костров на площадях. Что же до «эпохи застоя», то тут ситуация вообще особая. Даже если взять самого дистиллированного, самого законопослушного любителя чтения 70-х годов и поставить его перед витринами парижского книжного магазина, то и он смутно припомнит слышанные краем уха пересказы сюжетов целого ряда повестей и романов, покоящихся на иноземных стеллажах. И у него промелькнут в памяти обрывки стихов и песен, приглушенно звучавших с магнитофонных кассет… Но много ли сыщется таких дисциплинированных читателей? Абсолютное большинство тех, от кого зависит уровень культурного самосознайия страны, не только слышали, но и читали — и Войновича, и Бродского, и Владимова, и Солженицына, если не всех, то хотя бы кого-то из них, если не в западном полиграфическом исполнении, то в ксерокопии, если не в ксерокопии — то в самиздатской машинописи. Причем держателями такого рода книжных собраний были не столько московские и ленинградские интеллектуалы, сколько явившая в провинции научно-техническая интеллигенция. Книжные полки многих удаленных от Парижа отечественных библиофилов были до боли похожи на витрины магазина русской книги.
Все об этом знали, и невозможно поверить, чтобы «хозяева жизни» составляли тут исключение. Трудно избавиться от ощущения (естественно, никакими документальными данными не подтвержденного), что они сознательно допускали такую двойственную ситуацию, при которой значительная часть словесности официально считалась табуированной, но неофициально находилась в обращении. Иначе бы нашли способ «зло пресечь» в корне.
В принципиальной для переживаемого нами момента статье Ю. Буртина «Вам, из другого поколенья…» (впервые: «Октябрь», 1987, № 8) была дана точная квалификация действий идеологов 70-х: ими делалась ставка на уничтожение интеллигенции, не физическое, как во времена сталинизма, но моральное, через лишение независимости, воли, творческого начала. То есть через социальное растление ее. Это абсолютно верно; но гарантом успеха этой «операции» послужило отнюдь не отсутствие оппозиционных умонастроений, а умелое поддержание их на контролируемом уровне и тонкое манипулирование ими. Шла как бы игра в «наперсток»: на какой «номер» ни ставь, все равно проиграешь. Попадешься на чтении «запрещенного» — плохо; не попадешься — все равно нехорошо, потому что живешь, опасаясь; откажешься от такого чтения вообще — совсем худо, ибо пойдешь на внутренний компромисс с властью… «Равнодействующей» всех этих возможностей был страх, и он стал главным результатом царившего в 70-е годы тотального полузапрета.
Просчитывали «наперсточники» последствия своей политики или нет, судить трудно; главное, что эти последствия были, и к полузапрещенному провоцировался болезненный интерес, чувство свободы становилось генератором страха. Спровоцированный интерес в корне отличен от интереса «естественного»: первый лихорадочен, как гриппозный пульс, второй тверд, спокоен, духовен. Первый может служить поддержанию застойной стабильности, помогая спускать пары и являясь своеобразным оттоком социальной энергии, — об этом очень тонко и точно писал в «городской истории» «Однофамилец» Олег Чухонцев:
Была компания пьяна,
к тому ж, друг дружку ухайдакав,
как чушки рвали имена:
Бердяев! Розанов! Булгаков!
при этом пусть не короли,
но кумы королю и сами:
тот из князей, тот из ИМЛИ,
а та — с зелеными глазами…
Второй, естественный, интерес доступен только свободному человеку.
В этом все и дело. Этого и боялись. Этого и не хотели. Но понимали, что тоску по свободе, по воле ничем из людей не вытравить, — и умело направляли грозное течение в нужное русло, гасили в интеллигенции «дневное», светлое, открытое сознание и способствовали развитию сознания «ночного», замкнутого, подпольного. Из мало-мальски творческих и мыслящих людей незаметно выделывали героев Достоевского, и если сейчас кто-то из «правых» гуманитариев напоминает нам Ивана Карамазова, а кто-то из «левых» критиков — Петрушу Верховенского, не нужно этому удивляться. Если к постепенно возвращающейся свободе относятся не спокойно, как к должному, а либо как к чему-то грозящему древним «домостроевским» основам русской жизни, либо как к «золотому тельцу», кумиру, способному заменить собою Бога и стать действительным смыслом и целью (а не условием) человеческого существования, — в этом тоже нет ничего неожиданного. Если Православие из «право», то есть истинно славящей Христа веры, превращается для кого-то в языческий культ предков и из всемирной религии — в религию узконациональную, основанную на родстве по крови, — и это есть проявление «подпольного сознания». Весь ужас, все катастрофические последствия несвободного отношения к свободе показал в повести «Искупление» один из «главных героев» парижского каталога, Юлий Даниэль; правда, действие его повести, интеллигентные персонажи которой доводят до гибели человека, по ошибке заподозренного в стукачестве, происходит сравнительно давно, но с тех пор мало что изменилось, а может быть, все даже и усугубилось. Мы вступили в гласность «людьми подполья», порабощенными (но не раскрепощенными) идеей свободы, да во многом и остаемся ими. И не в последнюю очередь причиной тому — господство все это время такой модели «потаенной, теневой культуры, которая способна развивать обостренное отношение к норме и смещать подсознание интеллигенции в «ночную» сферу[44].
Главный принцип мелиорации культуры, как и во все предыдущее пятидесятилетие, заключался в том, чтобы ни одна пядь плодородной почвы не выполняла своей, от века назиаченной ей роли. Изменялись лишь методы воздействия на «вольных хлебопашцев» — от образцово-показательной высылки за рубеж (1922 год; судьба Н. Бердяева, Г. Флоровского, С. Франка — это все основоположники «западно-русской» издательской деятельности) до тихого выталкивания за рубеж (перелом от 1970-х к 1980-м годам; А. Гладилин, В. Аксенов… — и тот и другой обильно представлены на страницах каталога).
Суть же оставалась неизменной.
Причем здесь, как показывает внимательное знакомство с каталогом, существовала четко просматриваемая иерархия.
У части литераторов должны были отторгаться лишь отдельные книги неугодного содержания: это касалось и классиков (ср. почти одновременный выход внешне представительного собрания сочинений И. А. Бунина в СССР и — отдельно — «Окаянных дней» в Париже), и наших современников: назовем «Кроликов и Удавов» (1982), «Новые главы «Сандро из Чегема» (1981) Ф. Искандера, «Пушкинский дом» А. Битова (1978) и др.
У другой части вытеснялось все, начиная с определенного момента (как правило, после открытого изъявления протеста), причем как раз независимо от содержания. Так, ясно, чем могли не устроить цензуру «Записки об Анне Ахматовой» Л. К. Чуковской. Но чем — «Памяти детства. Воспоминания о Корнее Чуковском» (недавно, кстати, переизданные «Московским рабочим»)?! Чем — стихи (подчеркиваю: не автор, демонстративно вышедший из СП СССР после истории с «Метрополем», а именно стихи) Инны Лиснянской, объединенные в ее «зарубежные» книги «Дожди и зеркала» (1984) и «На опушке сна». (1985)?.. Как правило, следствием было объявление табу на самое имя писателя и постепенное вытеснение всех его книг, из открытого доступа — в спецхран.[45]