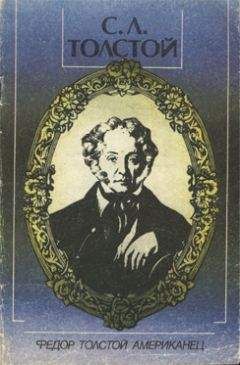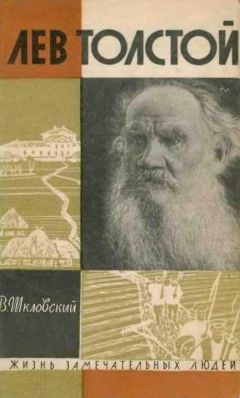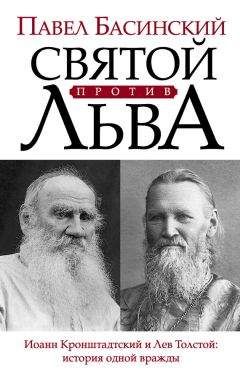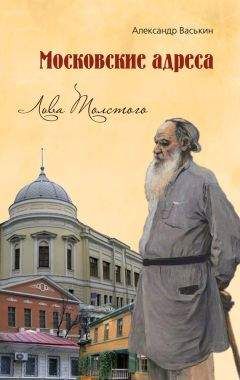Яков Лурье - После Льва Толстого
Короленко и Горький
Два писателя, связанные с Толстым в последние годы его жизни, стали свидетелями революции - Владимир Короленко и Максим Горький. Оба они страстно желали ее, и оба были обеспокоены ходом последующих событий. Короленко, как и Толстой, предвидел неизбежность революции еще в 1909 г., когда писал "Бытовое явление": "Кто поручится, что вал не подымется опять, так же неожиданно и еще более грозно? Нужно ли, чтобы в своем возвратном течении он принес и швырнул среди стихийного грохота эти тысячи трупов, задавленных в период "успокоения"?" (*) Сразу же после революции Короленко вынужден был обратиться к насущным вопросам, которые встали перед страной. Первым из них был вопрос о войне. Как и толстовцы, Короленко считал "безумную свалку народов, озарившую кровавым пожаром европейский мир и грозящую перекинуться в другие части света, великим преступлением, от ответственности за которое не свободно ни одно правительство, ни одно государство". Он заявлял, что "не пожалел бы отдать остаток жизни тем, кто мог бы с каким-нибудь вероятием противопоставить этому безумию деятельную идею человеческого братства". До революции, напоминал Короленко, он "не написал еще ни одного слова" в пользу войны. Но сейчас, когда произошла революция и "родина в опасности" (так и называлась его статья, написанная в марте 1917 г.), его позиция изменилась. Призыв к защите родины должен звучать "и от нас, писателей... кто всегда будил благородную мечту о том времени, "когда народы, распри позабыв, в великую семью соединятся". Если бы теперь немецкое знамя развернулось над нашей землей, то всюду рядом с ним развернулось бы мрачное знамя реставрации, знамя восстановления деспотического строя. Нами стал бы повелевать не только Николай Романов, но через него и Вильгельм Гогенцоллерн". Может быть, "близок день, когда на великое совещание мира явятся в семью народов делегаты России... У свободной России есть, что сказать на великом совещании народов, которое должно положить основы прочного мира" (**) Такая оборонческая позиция отличала Короленко от толстовцев, сторонников отказа от всяких военных действий - Короленко писал об этом отличии толстовцу Н. И. Журину (***). Опыт гражданской войны побудил Короленко усомниться в еще одном принципе, связывавшем его с Толстым, - в полном отрицании смертной казни. "Третьего дня опять вырезали семью: еврея, его жену и дочь. При этом принесли с собой водку и, зарезав еврея, кутили и насиловали жену и дочь, которых зарезали после изнасилования"", - записал он в дневнике в 1919 г. "...Против смертной казни таких зверей - даже я не возражаю..." (****) (* Короленко В. Г. Собр. соч.: В 10 т. М., 1955. Т. 9. С. 526-527. *) (** Статья в "Русских ведомостях" от 14 марта 1917 г., No 59. Цит. по: В. Г. Короленко в годы революции и гражданской войны. 1917-1921. Биографическая хроника / Сост. П. Г. Негретов. Chalidze Publications, 1985. С. 19-24 (далее: Негретов). **) (*** Короленко В. Г. Собр. соч. Т. 10. С. 559. Короленко ссылался на свой рассказ "Сказание о Флоре, Агриппе и Менахеме, сыне Иуды" (Собр. соч. Т. 2), где он показывал, что "любовь к справедливости приветствует сопротивление явному насилию". ***) (**** Негретов. С. 168-169. ****) Все годы начиная с 1917 и до своей смерти в 1921 г. Короленко провел в Полтаве, где он пережил смену множества властей. После Октября Полтаву занимали большевики, немцы с Радой и Скоропадским, петлюровцы, снова большевики, деникинцы и окончательно - большевики. Какова же была позиция Короленко? Свои взгляды он выражал в дневниках и газетных статьях, печатавшихся вопреки противодействию цензур различных властей, в переписке с Горьким и другими корреспондентами и особенно в шести посланиях Луначарскому, написанных в 1920 г. по особой просьбе последнего (инициатором этой переписки был, по-видимому, Ленин). Письма эти остались без ответа, и Короленко решил их опубликовать за границей (они были изданы в Париже в 1922 г.). В России эти письма были напечатаны почти семьдесят лет спустя - в 1988 г. (*) (* Негретов. С. 384-433; ср.: Новый мир. 1988. No 10. С. 198-218. Ср. также воспоминания В. Д. Бонч-Бруевича в кн.: В. Г. Короленко в воспоминаниях современников. М., 1962. С. 507-508. *) Замечательной особенностью всех выступлений Короленко в 1917-1921 гг. был их трезвый, глубоко рационалистический характер. Совершенной неправдой было утверждение Луначарского, много раз потом повторявшееся в разных вариациях: "Короленко с его мягким сердцем растерялся перед "беспорядком" и исключительностью и жестокостью революции" (*). Короленко нисколько не растерялся. "Я не социал-демократ и не социалист-революционер. Я беспартийный писатель, мечтающий о праве и свободе для всех граждан отечества, партизан права и свободы - с общесоциалистическим направлением мыслей - писал он летом 1918 г., когда большевики занялись уничтожением всей свободной печати. "Не повторяйте же страшных ошибок прошлого, признайте, что в нем было много страшной неправды, а в революции не одни ошибки, но и подавлявшаяся правда". Короленко отмечал, что "большевики недаром преследуют теперь главным образом социалистов. С чьей стороны слышали мы самые смелые протесты против большевистских безобразий на местах?" (**) Даже борьба с белыми не смягчила этой враждебности большевиков к демократическим социалистам. В 1921 г., после окончания гражданской войны, был арестован "чрезвычайкой" и погиб, заболев в тюрьме, зять и друг Короленко, социал-демократ Ляхович. Короленко писал о необходимости для русских революционных масс "многому учиться у тех, которых они объявили презренными соглашателями и изменниками, как германские вожди социализма, вроде Каутского" (***). Не будучи марксистом, Короленко в письмах к Луначарскому убедительно доказывал, что политика большевиков противоречит взглядам их собственных учителей: "Вы, Анатолий Васильевич, конечно, отлично еще помните то время, когда вы, марксисты, вели ожесточенную полемику с народниками. Вы доказывали, что России необходимо и благодетельно пройти через "стадию капитализма"... Капиталистический класс вам тогда преставлялся классом, худо ли, хорошо ли организующим производство... Почему же иностранное слово "буржуа" - целое, огромное и сложное понятие, с вашей легкой руки превратилось для нашего темного народа, до тех пор его не знавшего, в упрощенное представление о буржуе, исключительно тунеядце, грубияне?.. Тактически вам выгодно было раздуть народную ненависть к капитализму и натравить народные массы на русский капитализм, как направляют боевой отряд на крепость... Крепость вами взята и отдана на поток и разграбление. Вы забыли только, "что эта крепость - народное достояние, добытое "благодетельным процессом", что в этом аппарате, созданном русским капитализмом, есть многое, подлежащее усовершенствованию, дальнейшему развитию, а не уничтожению..." Он ссылался на Энгельса, говорившего, что капитал в Америке "отлично исполняет свою роль" и "роль его далеко не закончена", и на западных социалистов, понимающих, что "такие вещи, как свобода мысли, собраний, слова и печати", "необходимое орудие дальнейшего будущего... Только мы, никогда не знавшие этих свобод и не научившиеся пользоваться ими совместно с народом, объявляем их "буржуазными предрассудками"... Это огромная наша ошибка, еще и еще раз напоминающая славянофильский миф о нашем "народе-богоносце" и еще более - нашу национальную сказку об Иванушке, который без науки все науки превзошел и которому все удается без труда по щучьему велению" (****). (* Негретов. С. 129. *) (** Там же. С. 112-113. **) (*** Там же. С. 340. ***) (**** Там же. С. 392, 401-402, 405-406. ****) "Вы победили добровольцев, победили Юденича, Колчака, поляков, вероятно, победите и Врангеля", - писал Короленко Луначарскому в сентябре 1920 г. "Одним словом, на всех фронтах вы являетесь победителями, не замечая внутреннего недуга, делающего вас бессильными перед фронтом природы... Вы видите из этого, что я не жду ни вмешательства Антанты, ни победы генералов. Россия стоит в раздумье перед двумя утопиями: утопией прошлого и утопией будущего, выбирая, в какую утопию ей ринуться" (*). (* Там же. С. 430-431. *) Еще в марте 1919 г., до успехов Деникина, Короленко пришел к заключению, что "большевизм такая болезнь, которую приходится пережить органически. Никакие лекарства, а тем более хирургические операции помочь тут не могут. Лозунг для масс очень заманчивый..." (*) Его жена, приехавшая из Одессы, рассказывала "о безобразиях, которые происходили в Одессе при добровольцах и союзниках... Тут собрались реакционеры со всей России... Происходили расстрелы (это, кажется, всюду одинаково), происходили оргии наряду с нуждой, вообще Одесса дала зрелище изнанки капитализма, для многих неглубоко думающих людей составляющей всю его сущность". В июле 1919 г. деникинцы заняли Полтаву. Короленко, недавно еще обличавший большевистский террор, убедился, что деникинцы не лучше: "Эти дни прошли в сплошном грабеже. Казаки всюду действовали так, как будто город отдан им на разграбление... Начались подлые бессудные расстрелы... Мальчишки указывают грабителям жилища евреев и сами тащат, что попало. В покупке награбленного участвуют "порядочно одетые люди"". В письме Луначарскому Короленко вспоминал о том, как белые "вытащили из общей ямы 16 трупов" людей, расстрелянных ЧК, "и положили их на показ. Впечатление было ужасное, но - к тому времени они уже расстреляли без суда несколько человек, и я спрашивал у их приверженцев: думают ли они, что трупы расстрелянных ими, извлеченные из ям, имели бы более привлекательный вид?" Короленко послал статью в возобновившуюся изданием кадетскую газету "Полтавский день", "в которой говорил о событиях, грабежах и т. д.". Но редакция даже не пыталась представить, эту статью в цензуру. "С кадетами, по-видимому, каши не сваришь", - записал он в дневнике. В январе 1920 г. деникинцы в панике бежали из Полтавы. Короленко писал: "Добровольцы вели себя гораздо хуже большевиков и отметили свое господство, а особенно отступление, сплошной резней еврейского населения... которое должно было покрыть деникинцев позором в глазах их европейских благожелателей... Впечатление такое, что добровольчество не только разбито физически, но и убито нравственно". "Деникинцев я уже видел", - писал он в декабре 1920 г. Горнфельду. "Не думаю, что врангелевцы много от них отличаются..." (**) (* Там же. С. 158. *) (** Там же. С. 172, 200, 203, 207, 222, 228, 282, 387. **) "Прежний строй пал безвозвратно. Новому придется еще выкарабкиваться из своих ошибок, порой безумия и преступлений, но старое погибло", - писал Короленко в конце 1920 г. А в 1921 г. он приходит к заключению: "...всякий народ заслуживает то правительство, какое имеет: русский народ заслужил своим излишним долготерпением большевиков. Они довели народ на край пропасти. Но мы видели и деникинцев и Врангеля. Они слишком тяготели к помещикам и к царизму. А это еще хуже. Это значило бы ввергнуть страну в маразм..." (*) Подводя итоги революции и гражданской войны, Короленко писал: "...я не раскаиваюсь ни в чем, как это теперь встречаешь среди людей нашего возраста: дескать, стремились к одному, а что вышло. Стремились к тому, к чему нельзя было не стремиться в наших условиях. А вышло то, к чему привел "исторический ход вещей"..." (**) Этот "исторический ход вещей" в значительной степени совпадает с толстовским взглядом на историю как на "роевой" процесс, зависящий от "совпадения многих произволов людей, участвующих в этих событиях" и не управляемый волевым актом отдельного человека. Но, так же как и Толстого, это убеждение отнюдь не приводило Короленко к какому-либо "пассивизму". В своем личном поведении писатель руководствовался прежде всего нравственными принципами: именно о "работе совести в человеческих душах" писал он в статье, посвященной десятилетию смерти Толстого (***). Последние годы жизни Короленко, с 1918 по 1921 год, были годами его непрерывной, мучительной, иногда смертельно опасной деятельности - деятельности по спасению людей, попавших в мясорубку гражданской войны. (* Там же. С. 301, 357. *) (** Короленко В. Г. Собр. соч. Т. 10. С. 578-579. Ср.: Негретов. С. 263. **) (*** Цит. по: Негретов. С. 291. ***) Деятельность эта, отражавшаяся в его дневниках и письмах почти ежедневно, диктовалась ощущением личного долга перед каждым, кому грозила смерть. В январе 1919 г. Короленко ходил в петлюровскую контрразведку, помещавшуюся в Grand Hotel'e, ходатайствовать за трех арестованных - женщину, крестьянина и студента. Узнав, что женщине и крестьянину смерть не угрожает, Короленко решил уйти домой: "Я чувствовал себя очень плохо. Задыхался от волнения и как-то потерял энергию". Но тут он вспомнил, что студента он не спас: "Я почувствовал, что я уже огрубел и так легко примирился с предстоящей, может быть, казнью неведомого человека... Я решил тотчас же пойти опять в Grand Hotel... Я стал говорить..., что озверение, растущее с обеих сторон, необходимо прекратить... Пришел домой совершенно разбитый..." (*) "...Ты знаешь, что при петлюровцах еще мне пришлось... хлопотать, чтобы они не очень увлекались расстрелами, и даже спасти нескольких человек, обвиняемых в большевизме. Теперь приходится действовать в другую сторону", - писал Короленко жене в марте 1918 г., после победы большевиков над Петлюрой. "Много дел в чрезвычайке. И плодят еще больше..." С марта по июль 1919 г. в дневниках Короленко - сплошные записи о походах в ЧК и Исполком для хлопот за арестованных (**). (* Там же. С. 148-150. *) (** Там же. С. 157, 164-167, 180-185, 189, 193-195. **) В июле 1919 г. большевики оставили Полтаву. "Теперь нам же предстоит задача - охранять семьи большевиков от деникинских эксцессов", - записал в дневнике Короленко. Сразу же после прихода деникинцев Короленко вместе со своим зятем Ляховичем отправился в контрразведку. Там их встретили "с шумной приветливостью" - ведь именно они спасли при большевиках нескольких офицеров. Но вскоре Короленко пришлось снова хлопотать - на этот раз о бывших офицерах, приговоренных белыми к расстрелу за то, что они служили в Красной армии. В январе 1920 г. пришли большевики, и ходатайствовать за осужденных пришлось перед советскими властями. В одном случае Короленко обращался даже непосредственно к Луначарскому, приехавшему в июне 1920 г. в Полтаву (после этого приезда и началась их переписка). Короленко просил о пересмотре дела двух мельников, приговоренных к расстрелу за продажу муки по цене, превышающей совершенно нереальные твердые цены. Луначарский и начальник "чрезвычайки" заверили Короленко, что осужденные еще не казнены и возможна отмена приговора. И лишь потом, когда Луначарский уехал, выяснилось, что мельники были расстреляны еще до этого разговора и нарком знал об этом (*). (* Там же. С. 198, 200, 202-205, 210, 246-250, 252-253, 255-259, 261- 266, 272, 275-281, 298-299, 308-310, 317-319, 337, 349, 370, 384-389. *) "...Все обязаны делать, кто что может на своем месте... Есть французская поговорка: "Делай, что ты должен делать, и пусть будет, что будет..."" - писал Короленко одной из своих корреспонденток (*). Знал ли он, что этими словами заканчивался последний дневник Льва Толстого? Неизвестно. Но толстовской идее незыблемости нравственных принципов, не зависящих от "исторического хода вещей", он оставался верен до самой своей смерти 25 декабря 1921 года. (* Короленко С. В. Книга об отце. Ижевск, 1968. С. 302; ср.: Негретов. С. 53. *) Позиция Горького в годы революции была во многом сходной с позицией Короленко. Как и Короленко, Горький решительно осудил Октябрьский переворот, пытаясь помешать ему еще во время его подготовки и назвав большевиков после захвата ими власти "авантюристами и безумцами". Он писал, что Ленин "работает, как химик в лаборатории, с той разницей, что химик пользуется мертвой материей... а Ленин работает над живым материалом... Сознательные рабочие, идущие за Лениным, должны понять, что с русским рабочим классом проделывается безжалостный опыт, который уничтожит лучшие силы рабочих и надолго остановит нормальное течение революции". "...Пролетариат ничего и никого не победил..." - писал он после Октября. И Короленко, и Горький протестовали против разгона Учредительного собрания и расстрела безоружной демонстрации в его защиту; оба они были возмущены убийством в больнице двух депутатов Учредительного собрания Шингарева и Кокошкина. Горький, находившийся в Петрограде, еще острее воспринимал эти события, чем Короленко. Оба они сравнивали расстрел рабочей демонстрации 5 января 1918 г. с расстрелом 9 января 1905 г. "Сейчас идет не процесс социальной революции, а надолго разрушается почва, которая могла бы сделать эту революцию возможной в будущем", - писал Горький. Как и Короленко, Горький с тревогой отмечал попытки соединить приятие большевистской революции со славянофильским мифом о "народе-богоносце". Приводя слова одного из своих корреспондентов: "В большевизме выражается особенность русского духа, его самобытность... Мы же по пророчеству великих наших учителей - например, Достоевского и Толстого - являемся народом-Мессией, на который возложено идти дальше всех и впереди всех..." - Горький отмечал, что они написаны "в тоне московского славянофильства, которое так громко визжало в начале войны..." (*) (* Горький М. Несвоевременные мысли. Статьи 1917-1918 гг. / Сост., введение и примеч. Г. Е. Ермолаева. Paris, 1971. С. 148-152, 156, 157, 163, 168, 185 (далее: Несвоевременные мысли); ср.: Негретов. С. 87, 341. *) Существенно различалось отношение обоих писателей к вопросу о продолжении войны, возникшему после Февральской революции. Оба они были социалистами, но Короленко был ближе к социалистам-народникам; Горький же принадлежал к социал-демократам, и притом к их интернационалистскому крылу (Суханов, Мартов). "Эта война-самоубийство Европы!" - писал он 22 апреля 1917 г. "...Кто же виноват в дьявольском обмане, в создании кровавого хаоса? Не будем искать виновных в стороне от самих себя. Скажем горькую правду: все мы виноваты в этом преступлении, все и каждый". Когда спустя год армия была уже разрушена и стало широко распространенным представление, будто "армию разрушили социалисты". Горький привел множество свидетельств того, что еще в 1916 г. было ясно, что "армия неизбежно должна развалиться" и "вся Русь, а не только ее армия, начала разрушаться задолго до того, как социалисты получили в ней право голоса..." Горький писал, что факты о "немецких зверствах" так же "не оспоримы, как факты русских зверств в Сморгони, в городах Галиции и т. д.", и "отношение немцев к русским военнопленным гнусно", ибо "отношение старой русской власти к немецким военнопленным было тоже гнусным" (*). (* Несвоевременные мысли. С. 24, 26-29, 220, 224. *) При таких обстоятельствах Горький не считал себя вправе призывать к защите Отечества даже после Февральской революции. Надежды его, как и других интернационалистов, были связаны с общеевропейским социалистическим движением, направленным против войны и получившим отражение в конференциях в Циммервальде, Кинтале и Стокгольме в 1915-1917 гг. Понятие "Циммервальд" в нынешних представлениях связывается больше всего с Лениным и "пораженческой" тактикой большевиков, но следует иметь в виду, что в Циммервальде сторонники Ленина составляли лишь меньшинство, а большинство выступало за справедливый демократический мир между народами. "...В "пораженчестве" я совершенно неповинен и никогда ему не сочувствовал. Порицать кулачную расправу, дуэль, войну как мерзости, позорнейшие для всех людей, как действия, неспособные разрешить спор и углубляющие вражду, - порицать все это еще не значит быть "пораженцем" и "непротивленцем"", - писал Горький (*). (* Там же. С. 157, 164-167, 180-185, 189, 193-195. *) В отличие от оборонцев, Горький объяснял братание русских солдат с немецкими на фронтах не коварными замыслами немецкого генерального штаба, а "проснувшимся в людях чувством отвращения к бессмысленной бойне..." "...Очевидно, что проклятая война, начатая жадностью командующих классов, будет прекращена силою здравого смысла солдат, т. е. демократии", - писал он. "Если это будет - это будет нечто небывалое, великое, почти чудесное, и это даст человеку право гордиться собою - воля его победила самое отвратительное чудовище - чудовище войны" (*). (* Там же. С. 25. *) Если надежды интернационалистов в 1917 году не сбылись, то едва ли правильно объяснять это близорукостью, глупостью или даже "предательским" поведением. В России тяготы войны привели к революции уже в феврале 1917 г.; положение Германии было не легче, и недовольство нарастало и там. Надеяться на революцию в Германии (и в других воюющих странах) можно было с не меньшим основанием, чем на успехи измученной русской армии. Перед нами - проблема исторического предвидения, одна из проблем, поставленных Толстым в исторических главах "Войны и мира". Говоря о том, что те или иные исторические события могли привести к определенным последствиям - например, деяния порочных монархов - к революции, Толстой спрашивал: "Какой срок этого отражения?" (12, 310). Вопрос о "сроках отражения" постоянно встает перед людьми, жаждущими разрешения исторических кризисов - и чаще всего в определениях такого срока они ошибаются. Революция в Германии не произошла ни в 1917, ни в первой половине 1918 г.; война продолжалась. На всеобщий мир с участием союзников надежды не было. Возможно, что, если бы Временное правительство пошло на сепаратный мир с Австрией или Германией до развала русской армии, оно добилось бы сравнительно благоприятных условий этого мира - но вплоть до октября 1917 г. оно этого не сделало. Немецкие условия, предложенные в Бресте, включали уступку Россией ряда территорий (Украина, часть Белоруссии, Прибалтика и др.). Горький считал, что готовность Ленина согласиться на эти уступки это "не политика рабочего класса, а древнерусская, удельная, истинно суздальская политика" (*). Но что он мог предложить взамен? (* Там же. С. 266. *) "Политика, кто бы ее ни делал, всегда отвратительна, ибо ей неизбежно сопутствуют ложь, клевета и насилие" (*), таков был вывод, к которому пришел писатель в итоге всех событий 1917 и первой половины 1918 года. (* Там же. С. 266. *) Деятельность Горького в годы гражданской войны напоминала деятельность Короленко. Это была помощь отдельным людям, попавшим в беду, культурно-просветительная работа. Горький организовал Дом ученых, кое-как снабжавший пайками голодных интеллигентов, Дом искусств, издательство "Всемирная литература", обеспечивавшее их работой. О самоотверженной работе Горького, спасшего в те годы множество жизней, писали многие современники, в том числе и эмигранты - В. Ходасевич, Е. Замятин (*). И если Горькому многое не удавалось и не удалось в частности предотвратить гибель двух поэтов - осужденного на казнь Гумилева и доведенного до отчаяния Блока, то в этом не было его вины. Не был виноват Горький и в том, что его деятельность в помощь голодающим в 1921 г., к которой он, с одобрения Ленина, привлек не только иностранцев, но и представителей русской оппозиционной интеллигенции, привела к роспуску созданного было Комитета помощи голодающим, аресту его участников - Прокоповича, Кусковой и других, приговоренных к расстрелу (казнь им была заменена затем высылкой заграницу). "Вы сделали из меня провокатора. Это случилось со мною впервые в жизни", - заявил Горький заместителю Ленина Каменеву (**). (* Замятин Е. Лица. Нью-Йорк, 1955. С. 83-98; Ходасевич В. Ф. Некрополь. Воспоминания. YMCA-PRESS, Paris, 1967. С. 230-232. Ср.: Wolfe В. D. The Bridge and the Abyss. The Troubled Friendship of Maxim Gorki and V. I. Lenin. N. Y.; Wash.; L., 1967. P. 77-98. *) (** Wolfe В. D. The Bridge and the Abyss. P. 115-116. **) Но жизнь Горького все же завершилась не так, как жизнь Короленко. "Суеверие устроительства", решительно отвергнутое Толстым и чуждое Короленко, было Горькому весьма свойственно. Пока это "устроительство" касалось только защиты культуры и отдельных людей, оно, несомненно, было полезным. Но "устроительские" планы Горького простирались и на политику, которую он сам он признавал "всегда отвратительной". Он был сторонником "активного отношения к действительности", веры в возможность "двигать массы". Эта позиция сближала его с большевиками - даже весной 1918 года. "Большевики?" - спрашивал он "женщин-матерей" в одной из статей. "Лучшие из них - превосходные люди, которыми со временем будет гордиться русская история, а ваши дети будут восхищаться их энергией... Я знаю, что они производят жесточайший научный опыт над живым телом России... О да, они наделали много грубейших, мрачных ошибок, - Бог тоже ошибся, сделав всех нас глупее, чем следовало, природа тоже во многом ошибалась... Но, если вам угодно, то и о большевиках можно сказать нечто доброе". Та же мысль развивалась им и в другой статье: "Завоевав политические права, народ получил возможность свободного творчества новых форм социальной жизни, по он все еще находится - и внешне, и внутренне - под влиянием плесени и ржавчины старого быта...". И как вывод из этих размышлений: "Мне кажется, что первым должным делом следует признать необходимость объединения интеллектуальных сил старой опытной интеллигенции с силами молодой рабоче-крестьянской интеллигенции". Любопытно, что все эти статьи были напечатаны в "Новой жизни" в мае-июне 1918 г., т. е. буквально накануне закрытия этой газеты как контрреволюционной (*). (* Несвоевременные мысли. С. 235-236, 250, 265. *) Мысль об исторической неизбежности победы большевиков была не чужда и Короленко. Но, по мнению Короленко, русский народ "заслужил большевиков" своим долготерпением в годы царизма, благодаря чему революция совпала со временем войны и приобрела столь жестокие формы. Горький же искал причины жестокости в неких общих свойствах русского народа и русского крестьянства, отрицательное отношение к которому сложилось у него еще до революции, когда крестьяне сожгли кооператив, основанный им совместно с народником М. Ромасем. Именно эту мысль развивал Горький в статье "О русском крестьянстве", опубликованной уже в Берлине, после того как он уехал заграницу. Как и всякое обобщение такого масштаба, идея исторической вины целого народа и целого класса была крайне сомнительной, и, что особенно опасно, в ней ощущалось стремление снять вину с большевистской власти: "Когда в "зверстве" обвиняют вождей революции - группу наиболее активной интеллигенции, я рассматриваю это как ложь и клевету... или... как добросовестное заблуждение... Тех, кто взял на себя каторжную, Геркулесову работу очистки Авгиевых конюшен русской жизни, я не могу считать "мучителями народа", с моей точки зрения они - скорее жертвы" (*). Однако Ленин и его сподвижники издавали приказы о преследовании инакомыслящих, запрете свободного слова, о массовом терроре и, следовательно, несли полную ответственность за "зверства". (* Горький М. О русском крестьянстве. Берлин, 1922; перепечатано в: Огонек. 1991. No 49. С. 12. В том же номере "Огонька" помещен полемический ответ Б. Можаева Горькому - "Я теряюсь". Возмущение Можаева законно, но самый характер этой посмертной полемики не представляется удачным. Вместо того чтобы указать на бессмысленность таких огульных обвинений, Можаев ссылается на то, что многие из большевистских вождей не были русскими, и т. д. Трудно согласиться и с предложением Можаева исключить Горького из "школьных программ" за "преступления против своей нации" и "над родом людским" (там же. С. 13). Если применить такие репрессии к автору "Детства" и "В людях", то не придется ли исключать из программ и другого классика, утверждавшего, что не война, а "долгий мир зверит и ожесточает человека", и отвергавшего "буржуазные нравоучения" о "пролитой крови" (см. выше, с. 33) ? А ведь он был великий писатель. *) Горький, впрочем, был далеко еще не готов к примирению с большевиками. Уже после своего отъезда за границу он сделал попытку предотвратить расправу над эсеровскими вождями, которых коммунисты (в переговорах с представителями двух социалистических Интернационалов) обещали не предавать смертной казни и которых они после позорной судебной комедии все же осудили на расстрел. Горький обращался к западному общественному мнению, привлек к защите эсеров Анатоля Франса, но успеха не достиг: приговор был не отменен, а лишь отсрочен исполнением (до совершения кем-либо террористического акта против советских властей). Именно спор из-за этого приговора и был причиной травли Горького в советской печати и прекращения его связей с Лениным (*). Столь же сильное впечатление произвел на Горького и полученный им циркуляр Крупской местным библиотекам, в котором им предлагалось исключить из своих фондов "устаревшие" и "контрреволюционные" книги, в том числе сочинения Льва Толстого, Канта, Шопенгауера и др. Горький собирался в связи с этим отказаться от советского гражданства - собирался, но так и не сделал этого (**). (* Serge Victor. Memoirs of a Revolutionary, 1901-1941. L., 1963. P. 164; Wolfe B. D. The Bridge and the Abyss. P. 148-149. *) (** Ходасевич В. Ф. Некрополь. С. 248-253. Ср.: Wolfe В. D. The Bridge and the Abyss. P. 143-144. **) История дальнейших взаимоотношений писателя с коммунистической властью хорошо известна. До 1931 г. Горький жил за границей, в Италии, но сотрудничество его с советской печатью становилось все более широким. В 1928 и 1929 гг. он приезжал в СССР; посетил Соловки и заявил, что этот лагерь не имеет ничего общего с царскими тюрьмами, ибо "здесь жизнью трудящихся руководят рабочие люди", а "рабочий не может относиться к "правонарушителям" так сурово и беспощадно, как он вынужден относиться к своим классовым, инстинктивным врагам, которых - он знает - не перевоспитаешь". Что касается "классовых врагов", то это "худая трава, которую из поля вон выбрасывает справедливая рука истории" (Горькому были показаны лишь "контрреволюционеры эмоционального типа", монархисты, а "партийные люди" - эсеры и меньшевики - на всякий случай "переведены куда-то") (*). Далее последовали: "Если враг не сдается - его уничтожают", журналы "Наши достижения", "СССР на стройке", книга о Беломорканале, "История гражданской войны", в 1934 г. - 1-й съезд писателей, породивший "социалистической реализм" - эту "трагедию бессмыслицы", по выражению польского философа. Впрочем, Горький в 30-х годах был уже узником: он находился под фактическим домашним арестом, под ежедневным, тщательным надзором шефов НКВД и ушел из жизни перед "большими процессами" - видимо, смерть его была вызвана не естественными причинами, а опасением, как бы он вновь не вспомнил старое и не стал заниматься "чепухой, пустяками", как оценивал Ленин его ходатайства об арестованных. (* Горький М. Собр. соч.: В 18 т. М., 1963. Т. 11. С. 309, 315. *) Почему так случилось? Почему человек, всю жизнь боявшийся "испортить биографию" честного писателя, завершил ее так печально и страшно? Важную роль сыграл здесь опыт пребывания за границей в 1921-1931 гг. Колебания значительной части эмиграции между совершенно безнадежной идеей восстановления монархии, западным и "восточным (советским) фашизмом" отталкивали Горького от большинства эмигрантов. В конце концов он все-таки выбрал "восточный фашизм", убедив себя при этом в том, что это вовсе не фашизм. От своего заявления, что "пролетариат никого и ничего не победил", сделанного после Октябрьской революции, он теперь отказался и увидел в советской системе ту самую "диктатуру политически грамотных рабочих в тесном союзе с научной и технической интеллигенцией", о которой он мечтал в 1918 г. В этом самообмане немалую роль сыграла одна особенность характера Горького, которую отмечали общавшиеся с ним люди, - предпочтение навеянного человечеству "золотого сна" тяжелой и неприятной правде. "Я искреннейше и непоколебимо ненавижу правду", - заявил он однажды (*). (* Ходасевич В. Ф. Некрополь. С. 253, 273. *) Но была и другая причина - более важная. Принцип Толстого и Короленко: "Делай, что ты должен делать, и пусть будет, что будет" - далеко не оптимистической принцип. Он основан на признании сугубо ограниченных возможностей отдельного человека перед лицом истории. Но вести тяжкую, самоотверженную борьбу без надежды на существенное изменение окружающей жизни нелегко. Ведь и Толстому хотелось "верить, что человеку, а потому и человечеству, как собранию людей, стоит только захотеть, чтобы с корнем вырвать из себя зло", и он с большой болью признавал в 1909 г. несбыточность этой надежды (52, 31; ср. 57, 200) Горький же предпочел "тьме низких истин" "возвышающий обман". И заплатил за это не только жизнью, но и посмертным бесчестием.