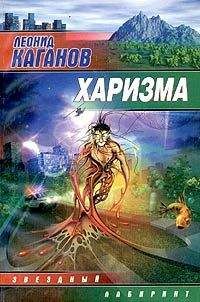Дмитрий Мережковский - Было и будет. Дневник 1910 - 1914
Победить человеческое зло можно лишь победив космическое зло — смерть. Это и сделал Христос не одной Голгофой, а Голгофой и воскресением — «смертью смерть победившим». В этом и только в этом смысле искупление уже совершилось, потому что совершилось воскресение. Мир уже спасен. Как бы медленно ни вкисало тесто человечества, оно раз навсегда заквашено закваской воскресения. Дело начато, и его ничто не остановит.
Что мало одного искупления бывшего, что само человечество должно в нем участвовать, совершать изнутри себя — в этом, разумеется, епископ Михаил прав. <…> «Задачи христиан все на земле, оставьте небо ангелам и воробьям!» — вот как понял его один собеседник («Ищущие Бога», А. С. Панкратов), пусть неверно, но слишком легко понять его именно так. «Оставьте землю для неба», — говорит старое христианство. «Оставьте небо для земли», — говорит новое. И второе горше первого: если первое — все-таки религия, то второе — все что угодно, только не религия. Не в отделении земли от неба, плоти от духа, человека от Бога, а в их соединении — будущее христианство.
Иисуса распятого и не воскресшего примут в наши дни с легкостью, да и приняла уже давно русская революционная общественность: ведь вся она не что иное, как Голгофа без воскресения, то именно христианское «самораспятие», самоубийство, которого так жаждет епископ Михаил.
Вот где для него самая страшная опасность: не соединение, а только смешение религии с революцией. Можно ведь и государственный Константинов лабарум: «Сим победиши» — перекроить на знамя революционное: «Оставим Его имя на наших знаменах пока, для простого народа, а стереть всегда успеем». <…> Делать религию орудием какой бы то ни было политики, все равно — порабощающей или освобождающей, есть третье искушение дьявола: «Если падши поклонишься мне, я дам Тебе все царства мира».
Лучше все, лучше погибать, как мы сейчас погибаем, — только не это.
Этого ли хочет епископ Михаил? Нет. Так чего же?
IIIДа, чего он хочет?
Если слушать слова его, то как будто ничего. Когда читаешь, думаешь: зачем он пишет?
Его нет в словах. Но вот за словами — горящий дух. И горит он именно тем, чем надо, — одною мыслью, одним чувством, одной волей: Земной Христос.
Епископ Михаил и те, кто с ним, похожи на людей, умирающих от жажды в пустыне: слышат журчание воды под землею и роют землю и молят о помощи. Но никто не помогает.
И не он один — сколько сейчас в России таких одиноких, умирающих от жажды. Друг друга не видят, не слышат, не знают. Каждый думает, что он один. А рядом с ним другой. Если бы соединились — отрыли бы воду. Но не могут соединиться, потому что нет слова соединяющего. <…>
РАСКОЛОВШИЙСЯ КОЛОКОЛ
Царь-колокол сам подымется и зазвонит в день Страшного суда, говорят люди «старой веры». Но так как православным «старая вера» кажется не истинной, а Страшный суд слишком далеким, то два инженера, Подчиненов и Славянов, представили проект поднять царь-колокол, припаяв к нему отбитый кусок электричеством. В 1834 году, при Николае I, велено было вытащить царь-колокол из ямы. Тогдашние русские инженеры составили проект вырыть пологую дорожку и потом людьми или лошадьми докатить колокол до того места, где он теперь находится. Но француз Монферран, строитель Исаакиевского собора,[59] написал на этих проектах: «Неудобоисполнительно» и взамен составил свой — построить над ямою леса, вытащить колокол на цепях, перекатить и поднять на подставки. Так и сделали.
Эти сведения о царе-колоколе «Колокол» сообщает, не подозревая, до чего они символичны.
— Единение возможно только в церкви.
— А мы, признаться, побаиваемся церкви-то.
— Как? Почему?
— Да, по-нашему, больно хила она стала, как бы совсем не придавила. Ведь, недаром же Златоуст пишет: чем вам в старой храмине сидеть, не лучше ли новенькую сделать?.. Да и в Апокалипсисе говорится, что все будет новое… Такое, стало быть, уж время пришло. Весь народ желает нового.
Это из беседы православного с «белоризцем», подслушанной А. С. Пругавиным («Религиозные отщепенцы»).
— Надо собраться всем толкам, — заключает белоризец, — надо обдумать все… Разобрать: отчего у нас раскололась посуда!
Отчего раскололся царь-колокол?
Некогда силою своею страшна была церковь воинствующая, которая отлучала и жгла на кострах; но с тех пор как отдала она силу свою государству, из воинствующей сделалась «торжествующей» — страшнее силы слабость, хилость ветхой храмины: «как бы не придавила».
Оттого-то и колокол упал, раскололся, что пошатнулась храмина.
Кажется, правы люди «старой веры»: не вытащить его из ямы ни по какой пологой дорожке, не припаять отбитый кусок никаким электричеством. «Неудобоисполнительно». Подымется сам в день Страшного суда. А теперь если и начнут подымать, то опять упадет и разобьется.
IIВ Уренских лесах, за Ветлугою, в маленьком староверческом городке Варнавине, на крутом, сползающем обрыве, оползне, стоит незапамятно древняя церковь св. Варнавы. Дожди размывают оползень. Еще две-три весны, и церковь упадет в Ветлугу. «Укрепить бы», — думают неверующие. А верующие надеются: «Удержит батюшка Варнава». Ну, а если он ушел из церкви, то все равно свалится.
Так живет и верит вся Россия — и не укрепляет обрыва. Падают последние деревянные церкви. А в каменных угодники не живут.
— Наверно, ушел?
— Бог знает. Под спудом святой. Хотел посмотреть один поп, да ослеп. И другой ослеп. Слепнут попы.
Каждый год в храмовой праздник собираются богомольцы и ночью, в темноте, со свечами в руках ползут на коленях вокруг церкви по скользкому оползню.
«Держись к стороне, не разбивайся!» — кричит городовой. Городовые зорко смотрят, а «попы слепнут». Но полицейские окрики никого не удержат, ничего не спасут: ползущие продолжают ползти, не замечая, что гнилые стены шатаются, оползень движется — вот-вот все вместе «ухнет».
IIIО «ползущих» рассказано в недавно вышедшей книге M. M. Пришвина: «У стен града невидимого» (Москва, 1909).
Почти все доныне бывшие исследователи русского раскола, сектантства к религиозной жизни народа подходили со стороны общественной, политической, экономической, т. е. в последнем счете извне. Подходили, но не вошли. Чего стоит чужая религиозная жизнь, не знает человек, сам ею никогда не живший. Вот почему от народных верований остаются лишь «суеверия». <…>
Пришвин думает, что и он — как все, что и для него народные верования — «лишь этнографические ценности». Но стоит заглянуть в книгу, чтобы убедиться, что это не так.
Зашел в лесную глушь. Стучится под окошком избы и побаивается. Старик, черный и крепкий, как дуб, пролежавший сто лет в болоте, отворяет.
— Откулешний? Зачем?
— Ищу правильную веру.
— Входи.
Пришвину кажется, что он обманывает народ; но не народ, а себя он обманывает. С ним происходит то же, что с одним героем Достоевского: «когда верит, то не верит, что верит». Но если даже действительно не верит, то ищет веры, а этого для народа достаточно.
— Вы кто? — спросил я однажды тех самых «немоляк», которых посетил и Пришвин.
— Мы ищущие, — ответили мне.
Все русские сектанты-раскольники, отколовшиеся от церкви, — отбитый кусок царя-колокола — могли бы сказать о себе: мы — «ищущие».
— Все, значит, правильную веру выискивают, — говорил симбирский извозчик Пругавину. — Которые побогаче, те по разным святым и другим прочим местам ходили. Все, стало быть, пытали: какая вера самая правильная?.. Другие, может, весь вольный свет насквозь прошли. Все искавши веры.
— Ну, и что же, выискали?
— А выискали, что без церкви никак невозможно… Невозможно, стало быть, спастись без церкви.
Вот народная боль.
«Я не верю, как они, — говорит Пришвин, — но угадываю, почти чувствую эту народную боль по единой церкви».
Если так, то он не обманывает народ; если у него с народом одна боль, то и одно исцеление. Во всяком случае, с этою болью никогда никто из «интеллигентов» не подходил к народу. Это — новое, небывалое «хождение в народ».
Но недаром и не от излишней скромности прибавляет он — почти: почти чувствую народную боль. В этом «почти» та пропасть, которая все еще отделяет народ от «интеллигенции».
«— Какой ты веры? Какая у вас там вера?
— Я крещен православным.
— А веришь как?
Верю?.. Там, в городе, в моей каменной квартире, никто не спросит, во что я верю. Здесь нельзя без этого.
— У нас, дедушка, верят все по-разному.
— По-раз-но-му! Слышь? По-разному… Ах вы, горькие, горькие!»
Мы привыкли жалеть народ; но вот оказывается, что и мы народу жалки. В одном чем-то главном мы для него темнее, бледнее, голоднее, «горше», чем он сам. Больные тою же болезнью, но уже боли не чувствуем в беспамятстве.