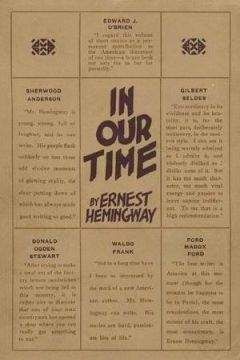Эрнест Хемингуэй - Старый газетчик пишет...
— Тогда все остальное уже не важно. Это самое замечательное из всего, что писатель способен сделать. Возможно, он потерпит неудачу. Но какой-то шанс на успех у него есть.
— По-моему, то, о чем вы говорите, называется поэзией.
— Нет. Это гораздо труднее, чем поэзия. Это проза, еще никем и никогда не написанная. Но написать ее можно, и без всяких фокусов, без шарлатанства. Без всего того, что портится от времени.
— Почему же она до сих пор не написана?
— Потому что для этого требуется наличие слишком многих факторов. Во-первых, нужен талант, большой талант. Такой, как у Киплинга. Потом самодисциплина. Самодисциплина Флобера. Потом нужно иметь ясное представление о том, какой эта проза может быть, и нужно иметь совесть, такую же абсолютно неизменную, как метр-эталон в Париже, для того, чтобы уберечься от подделки. Потом от писателя требуется интеллект, и бескорыстие, и самое главное — умение выжить. Попробуйте найти все это в одном лице при том, что это лицо сможет преодолеть все те влияния, которые тяготеют над писателем. Самое трудное для него — ведь времени так мало — это выжить и довести работу до конца.
…Я с удовольствием уселся под деревом, прислонился к нему спиной и открыл «Севастопольские рассказы» Толстого. Книга эта очень молодая, в ней есть прекрасное описание боя, когда французы идут на штурм бастионов; и я задумался о Толстом и о том огромном преимуществе, которое дает писателю военный опыт. Война одна из самых важных тем, и притом такая, когда труднее всего писать правду, и писатели, не видавшие войны, из зависти стараются убедить и себя и других, что тема эта незначительная, или противоестественная, или нездоровая, тогда как на самом деле им просто не пришлось испытать того, чего ничем нельзя возместить. Потом «Севастопольские рассказы» навели меня на воспоминания о Севастопольском бульваре в Париже, о том, как я ездил по нему на велосипеде, под дождем возвращаясь домой из Страсбурга, и какие скользкие были трамвайные рельсы, и каково ехать людной улицей под дождем по маслянисто-скользкому асфальту и булыжной мостовой, и о том, как мы чуть было не поселились тогда на бульваре Тампль; и я вспомнил ту квартиру — обстановку и обои, — но вместо нее мы сняли верх домика на улице Нотр-Дам-де-Шан во дворе, где была лесопилка (и внезапное взвизгивание пилы, запах опилок, каштан, поднимавшийся над крышей, и сумасшедшая в нижнем этаже), и как весь тот год нас угнетало безденежье (рассказы один за другим возвращались с почтой, которую опускали в отверстие, прорезанное в воротах лесопилки, и в сопроводительных записках редакции называли их не рассказами, а набросками, анекдотами, contes[29] и т. д. Рассказы не шли, и мы питались луком, и пили кагор с водой); и я вспомнил о том, как хороши были фонтаны на площади Обсерватории (переливчатая рябь на бронзовых конских гривах, бронзовых торсах и плечах — зеленых под сбегающими по ним струйками), и о том, как в Люксембургском саду, где кратчайший переход на улицу Суффло, поставили бюст Флобера (того, в которого мы верили, кого любили, не помышляя о критике, — Флобера, теперь грузного, высеченного из камня, как и подобает кумиру). Он не видел войны, но он видел революцию и Коммуну, а революция — это еще лучше, если не становишься фанатиком, потому что все говорят на одном языке, и гражданская война лучшая из войн для писателя — наиболее совершенная. Стендаль видел войну, и Наполеон научил его писать. Он учил тогда всех, но больше никто не научился. Достоевский стал Достоевским потому, что его сослали в Сибирь. Несправедливость выковывает писателя, как выковывают меч.
… У меня все еще были «Севастопольские рассказы» Толстого, и в этом же томике я читал повесть «Казаки» — очень хорошую повесть. Там был летний зной, комары, лес — такой разный в разные времена года — и река, через которую переправлялись в набеге татары; и я снова жил в тогдашней России.
Я думал о том, как реальна для меня Россия времен нашей гражданской войны, реальна, как любое другое место, как Мичиган или прерии к северу от нашего города и леса вокруг птичьего питомника Эванса; и я думал, что благодаря Тургеневу я сам жил в России, так же как жил у Будденброков и в «Красном и черном» лазил к ней в окно, а еще было то утро, когда мы вошли в Париж через городские ворота и увидели, как Сальседа привязали к лошадям и четвертовали на Гревской площади. Все это я видел сам. И ведь это меня так и не вздернули на дыбу, потому что я был изысканно вежлив с палачом, когда нас с Кокона казнили; и я помню Варфоломеевскую ночь, и как мы ловили гугенотов, и я попал тогда в засаду у нее в доме, и то ни с чем не сравнимое по своей неподдельности чувство, когда я убедился, что ворота Лувра закрыты, или когда смотрел на его тело, видневшееся под водой в том месте, куда он свалился с мачты… потому что мы были там и в книгах, и не в книгах — а там, где бываем мы, если только мы чего-нибудь стоим, там вслед за нами удается побывать и вам. Земля в конце концов выветривается, и пыль улетает с ветром, все ее люди умирают, исчезают бесследно, кроме тех, кто занимался искусством. Но теперь они хотят отойти от своей работы, потому что им слишком одиноко, потому что эта работа слишком трудна и вышла из моды. Экономика тысячелетней давности кажется нам наивной, а произведения искусства живут вечно, но создавать их очень трудно, а сейчас к тому же и не модно. Люди не хотят больше заниматься искусством, потому что тогда они будут не в моде, и вши, ползающие по литературе, не удостоят их своей похвалой. И дело это трудное. Как же быть? А вот так. И я продолжал читать о реке, через которую переправлялись в набеге татары, о пьяном старике охотнике, о девушке и о том, как по-разному там бывает в разные времена года.
Если ты совсем молодым отбыл повинность обществу, демократии и прочему и, не давая себя больше вербовать, признаешь ответственность только перед самим собой, на смену приятному, ударяющему в нос запаху товарищества к тебе приходит нечто другое, ощутимое, лишь когда человек бывает один. Я еще не могу дать этому точное определение, но такое чувство возникает после того, как ты честно и хорошо написал о чем-нибудь и беспристрастно оцениваешь написанное, а тем, кому платят за чтение и рецензии, не нравится твоя тема, и они говорят, что все это высосано из пальца, и тем не менее ты непоколебимо уверен в настоящей ценности своей работы; или когда ты занят чем-нибудь, что обычно считается несерьезным, а ты все же знаешь, что это так же важно и всегда было не менее важно, чем все общепринятое, и когда на море ты один на один с ним и видишь, что Гольфстрим, с которым ты сжился, который ты знаешь, и вновь познаешь, и всегда любишь, течет, как и тек он с тех пор, когда еще не было человека, и омывает этот длинный, прекрасный и злополучный остров с незапамятных времен, до того, как Колумб увидел его берега, и все, что ты можешь узнать о Гольфстриме и о том, что живет в его глубинах, все это непреходяще и ценно, ибо поток его будет течь и после того, как все индейцы, все испанцы, англичане, американцы, и все кубинцы, и все формы правления, богатство, нищета, муки, жертвы, продажность, жестокость — все уплывет, исчезнет, как груз баржи, на которой вывозят отбросы в море — дурно пахнущие, всех цветов радуги вперемешку с белым, — и, кренясь набок, она вываливает это в голубую воду, и на глубину в двадцать−двадцать пять футов вода становится бледно-зеленой, и все тонущее идет ко дну, а на поверхность всплывают пальмовые ветви, бутылки, пробки, перегоревшие электрические лампочки, изредка презерватив, набрякший корсет, листки из ученической тетрадки, собака со вздутым брюхом, дохлая крыса, полуразложившаяся кошка; и тряпичники, не уступающие историкам в заинтересованности, проницательности и точности, кружат вокруг на лодках, вылавливая добычу длинными шестами. У них своя точка зрения. И когда в Гаване дела идут хорошо, Гольфстрим, в котором и не различишь течения, принимает пять порций такого груза ежедневно, а миль на десять дальше вдоль побережья вода в нем такая же прозрачная, голубая и спокойная, как и до встречи с буксиром, волочащим баржу; и пальмовые ветви наших побед, перегоревшие лампочки наших открытий и использованные презервативы наших пылких любовей плывут, такие маленькие, ничтожные, на волне единственно непреходящего — потока Гольфстрима.
…С нашим появлением континенты быстро дряхлеют. Местный народ живет в ладу с ними. А чужеземцы разрушают все вокруг, рубят деревья, истощают водные источники, так что уменьшается приток воды, и в скором времени почва — поскольку травяной покров запахивают — начинает сохнуть, потом выветривается, как это произошло во всех странах и как начала она выветриваться в Канаде у меня на глазах. Земля устает от культивации. Страна быстро изнашивается, если человек вместе со всей его живностью не отдает ей свои экскременты. Стоит только человеку заменить животное машиной — и земля быстро побеждает его. Машина не в состоянии ни воспроизводить себе подобных, ни удобрять землю, а на корм ей идет то, что человек не может выращивать. Стране надлежит оставаться такой, какой она впервые предстает перед нами. Мы — чужие, и после нашей смерти страна, может быть, останется загубленной, но все же останется, и никто из нас не знает, какие перемены ее ждут. Не кончают ли все они так, как область Гоби в Монголии, превратившаяся в пустыню.