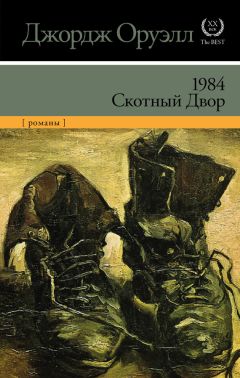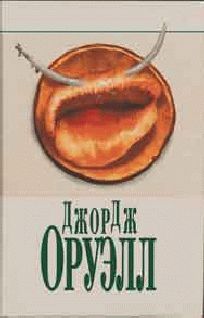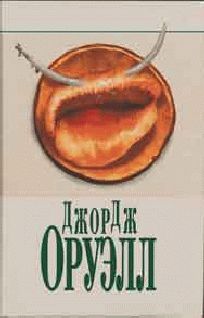Элиас Канетти - Человек нашего столетия
Постепенное воздействие таких интенсивно преследуемых целей на людей, даже не столь честолюбивых, в сущности, поразительно. Не будь войны, повернувшей судьбу Гитлера к катастрофе, можно предположить, что в 1950 году он увидел бы свой новый Берлин, вопреки всем опасениям и всякой хилости.
Триумфальная арка
Из множества зданий, какие Гитлер запланировал для Берлина, милее всех его сердцу Триумфальная арка — может быть, наравне с большим Купольным залом. Эскиз для нее он создал еще в 1925 году. Модель, выполненная по этому эскизу, — сюрприз Шпеера к пятидесятилетию Гитлера в апреле 1939 года. За несколько недель до этого дня его войска вошли в Прагу. Время для Триумфальной арки представляется особенно подходящим. Гитлер глубоко взволнован подарком Шпеера. Его так и тянет к этой модели, он подолгу ее рассматривает, демонстрирует гостям, фотография, запечатлевшая его восторг, приложена к «Воспоминаниям» Шпеера. Редко когда какой-либо подарок так глубоко волновал человека.
Раньше Гитлер со Шпеером часто говорили об этой Триумфальной арке. Она должна была достигать в высоту 120 метров, то есть быть более чем в два раза выше Наполеоновой Arc de Triomphe в Париже. «Это будет по меньшей мере достойный памятник нашим соотечественникам, погибшим в мировой войне. Имя каждого из 1,8 миллиона павших будет высечено в граните!» Это слова Гитлера, как их передает Шпеер. Невозможно более сжато выразить сущность Гитлера. Поражение в первой мировой войне не признается, а превращается в победу. Она будет возвеличена Триумфальной аркой, вдвое больше той, которой был удостоен Наполеон за все свои победы в совокупности. Тем самым ясно заявлено намерение превзойти его победы. Арка, поскольку стоять ей вечно, будет сооружена из твердого камня. Однако на самом деле она сложена из кое-чего более пенного — из 1,8 миллиона погибших. Имя каждого из павших будет высечено в граните. Так им будет воздана честь, но, кроме того, так они окажутся все вместе, сомкнутые более плотно, чем это могло бы произойти в какой бы то ни было массе. Своей огромной численностью они образуют Триумфальную арку Гитлера. Это пока что погибшие не на его новой, запланированной им и желанной ему войне, а те, что пали в первой, в которой он участвовал сам, как и всякий другой. Он выжил в этой войне, но остался ей верен и никогда от нее не отрекался. В памяти павших он и почерпнул силу не признавать исхода минувшей войны. Они были его массой, пока он не располагал никакой другой; он чувствует, что это они помогли ему прийти к власти, без павших на первой мировой войне он бы никогда не существовал. Его намерение свести их воедино в его Триумфальной арке признание этой истины и его долга перед ними. Но это его Триумфальная арка, и она будет носить его имя. Едва ли кто-нибудь прочитает множество других имен — если даже действительно удастся высечь 1,8 миллиона имен, то подавляющее большинство их никогда не привлечет к себе внимание. Что останется у людей в памяти, так это их число, а это огромное число — придаток к его имени.
Ощущение массы мертвецов для Гитлера — решающее. Это и есть его истинная масса. Без этого ощущения его не понять вообще, не понять ни его начала, ни его власти, ни того, что он с этой властью предпринял, ни к чему его предприятия вели. Его одержимость, проявлявшая себя с жуткой активностью, и есть эти мертвецы.
Победы! Победы!
Победы! Победы! Если есть фатальная убежденность, преобладавшая у Гитлера над всякой другой, то это его вера в победы. Немцы, как только они перестают побеждать, — это уже совсем не его народ, он без особых церемоний отказывает им в праве на жизнь. Они оказались более слабыми, их не жалко, он желает им гибели, которую они заслужили. Если бы они побеждали и дальше, как повелось при его господстве, то были бы в его глазах иным народом. Люди, одержавшие победу, — это иные люди, даже если они те же самые. То, что столь многие еще верят в него, хотя их города лежат в развалинах и практически ничто не защищает их от воздушных налетов противника, не производит на него впечатления. Несостоятельность Геринга после стольких его пустых обещаний (что вполне ясно Гитлеру, поскольку Геринга он за это ругает) в конечном счете списывается опять-таки на массу немцев, ибо они больше не в состоянии побеждать.
Фактически дело обстоит так, что он злится на армию за каждый кусок завоеванной земли, который ей приходится оставлять. Он противится, пока может, тому, чтобы от чего-то отказываться, каких бы жертв это ни стоило. Ибо все, что завоевано, он ощущает как кусок собственного тела. Его физический распад в течение последних недель в Берлине, который весьма проникновенно изображает Шпеер, распад, вызывающий у Шпеера сострадание, несмотря на все, что предпринял Гитлер против него лично, есть не что иное, как увядание его власти. Тело параноика — это его власть, вместе с ней оно расцветает или увядает. До самого конца ему важнее всего — не допустить, чтобы враг расчленил это тело. Правда, он отдает распоряжение о последней битве за Берлин, дабы погибнуть, сражаясь, — клише из того исторического хлама, которым набита его голова. Но «я сражаться не буду, — говорит он Шпееру, — слишком велика опасность, что я буду только ранен и живым попаду в руки русских. Не хотелось бы мне также, чтобы враги надругались над моим телом. Я распорядился, чтобы меня сожгли». Он уйдет из жизни, не сражаясь сам, в то время как другие сражаются, и что бы ни случилось с этими другими, сражающимися за него, у него одна забота: чтобы не тронули его мертвое тело, ибо это тело было для него тождественно с его властью, содержало ее в себе.
Однако Геббельсу, который умирает совсем рядом с ним, удается превзойти его даже в смерти. Он принуждает свою жену и детей умереть вместе с ним. «Моя жена и мои дети не могут меня пережить. Американцы только натаскают их для пропаганды против меня». Это собственные слова Геббельса в передаче Шпеера. Последнему не разрешается проститься наедине с женой Геббельса, с которой он был дружен. «Геббельс все время был рядом со мной… Только перед самым концом она намекнула мне на то, что ее действительно волновало: „Как я счастлива, что хоть Харальд (ее сын от первого брака) остался жив“». Последний акт власти Геббельса состоит в том, что он не позволяет своим детям его пережить. Он боится, что их могут натаскать в его основной профессии, в пропаганде, против него. Что он под конец обеспечил себе такое посмертное удовлетворение, не следует рассматривать как возмездие за его деятельность — это ее кульминация.
Равнодушие Гитлера к судьбе своего народа, чье величие и процветание он столько лет выдавал за истинный смысл, за цель и содержание своей жизни, предстает в описании Шпеера с такой очевидностью, что оно кажется просто беспримерным. Это Шпеер неожиданно перенимает прежнюю мнимую роль Гитлера: пытается спасти то, что еще можно спасти для немцев. Его упорство в борьбе против Гитлера, который принял решение о полной гибели немцев и благодаря своей командной власти обладает еще достаточным могуществом, чтобы этого добиться, внушает уважение. Гитлер своего намерения нисколько не скрывает. «Если будет проиграна война, — говорит он Шпееру, — то погибнет и народ. Нет необходимости считаться с теми основами, которые необходимы немецкому народу для его хотя бы примитивного дальнейшего существования. Напротив того, лучше и эти вещи разрушить. Ибо этот народ оказался более слабым, и будущее принадлежит исключительно более сильному восточному народу. Те, что уцелеют после этих битв, так или иначе люди неполноценные, ибо лучшие пали!»
Здесь победа четко объявляется высшей инстанцией. Поскольку его народ, который он сам погнал на войну, оказывается более слабым, то и те, что от него остались, не имеют права жить. Более глубокий мотив для этого: он не желает, чтобы его пережили. Врагам, одержавшим победу, он не может помешать его пережить. Зато очень даже может истребить остатки своего собственного народа. По испытанному образцу он объявляет всех этих людей неполноценными, «ибо лучшие пали». Те, что еще живы, на верном пути к тому, чтобы в его глазах превратиться во вредных насекомых. Нет, однако, даже необходимости в том, чтобы этот процесс обесценивания довести до конца, ему достаточно объявить их неполноценными, как до этого он объявил недостойными жить всех душевнобольных. Все, кого он уничтожил, неусыпно присутствуют в нем. Масса убиенных взывает к своему умножению.
Он очень хорошо помнит, сколь велико их число: то, что факт и способ их уничтожения держались в тайне, будучи известны лишь тем, кто в нем участвовал, усиливает их воздействие на него. Они стали самой большой массой, какой он располагает, и они — его тайна. Как всякая масса, они напирают, требуя умножения. Так как он больше не может прибавить к ним врагов, ибо те взяли верх, он испытывает необходимость умножить эту массу за счет своего народа. До него и после него должно умереть как можно больше людей. Не зная внутренней связи этих событий — часть их еще была от него скрыта, — Шпеер не мог не испытывать глубочайшего ужаса от высказываний Гитлера, в которых эти события проглядывали. Что означали его разрушительные приказы, было ясно как день. Но то, как он их обосновывал, когда им пытались противиться, заставило Шпеера желать ему смерти. Сегодня нам трудно понять, почему каждый немец, узнавший об этих приказах, не чувствовал и не реагировал точно так же.