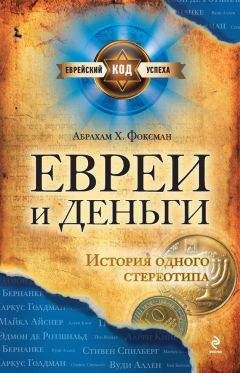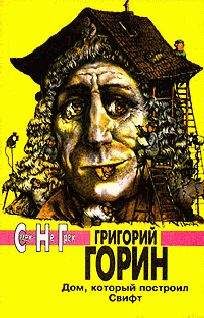Умберто Эко - Полный назад! «Горячие войны» и популизм в СМИ
Будучи по определению существами игрового плана, потеряв всякую меру в играх, мы тонем в тотальной карнавализации. Но и у человеческого рода много резервов. Можно предположить, что человечество мутирует и сумеет даже извлечь из этого непривычного положения кое-какие духовные преимущества. Может, и хорошо, что в наши времена работа перестала быть проклятием, что можно не посвящать все дни жизни упражнению в «доброй смерти» и что рабочий класс наконец-то пойдет в рай[117], улыбаясь и хохоча. Возликуем же!
Вероятно, со всем остальным разберется История. Одна приличная мировая война с положенными причиндалами типа обедненного урана, одна хорошая озоновая дыра, и карнавалу — каюк. Характерно, в частности, что тотальная карнавализация никого не насыщает, а только разжигает аппетит. Доказательство — дискотечный синдром: наплясавшись и наслушавшись диких децибел на танцплощадках, выходя после ночи утром, ненасытные разгоняют машину и устраивают на скоростных дорогах опьяняющие гонки смерти.
Полная карнавализация, глядишь, доведет нас до анекдота. Помните древнюю хохму о том, как знакомятся с барышней: «Девушка, а сегодня после оргии вы чего делаете вечером?»
Утраченная укромность частной жизни[118]
Первое, что утратилось по милости Интернета, из-за глобализации средств связи — это понятие границ.
Представление о границах так же исконно, как людской род — более того, оно присуще и животным. Этологи обнаружили, что каждое животное отводит для себя и для себе подобных защищенное пространство, территорию, внутри которой зверь себя чувствует уверенно и считает своим врагом всякого, кто проникнет на охраняемую территорию. Культурная антропология продемонстрировала, как это буферное пространство от культуры к культуре меняется, у одних народов расстояние между собеседниками должно быть как можно меньшим, и это знак доверия, а другие соблюдают дистанцию — у них в культурах чрезмерная близость говорящего воспринимается как знак агрессивности.
На социальном уровне индивид отождествляет эту защищенную зону с собственной общиной. Границы города, области, царства обычно воспринимаются населением как сумма индивидуальных защищенных пространств. В представлениях древних римлян царило понятие о границе: идея границы даже легла в основу мифа об основании государства. Ромул провел границу и убил брата Рема, осмелившегося ее нарушить. Юлий Цезарь, перед тем как перейти Рубикон, волновался, наверное, не меньше Рема. Цезарь знал, что, переходя через реку, совершает вооруженное нападение на римскую территорию. Остановился ли после того он в Римини (сперва остановился!) или двинулся штурмовать Рим, уже не меняет дела: святотатство свершилось в минуту пересечения границы, оно необратимо. «Жребий брошен!» Греки знали, где пролегали границы полиса, при переходе из местности в местность переменялся язык. Варвары начинались там, где грекоговорящие кончались.
Нередко идея политической границы воздействовала на умы до того капитально, что ставился забор поперек живого города, и одни оказывались по сю сторону, другие — по ту. Попытка перелезть через забор, по крайней мере для восточных немцев, кончалась столь же нерадостно, как и затея легендарного Рема. Берлинская стена — квинтэссенция границы. Любая граница защищает сообщество не только от внешнего нападения, но и от заглядывания извне. Стена и языковой барьер помогают деспотическому режиму держать в узде население, не ведающее, что происходит во внешнем мире, однако при этом гарантируется также и населению, что никакие чужеземцы не смогут выведать местные обычаи, местные богатства, местные изобретения, местные способы обработки почвы. Великая китайская стена не только оберегала население Поднебесной империи от набегов, но и гарантировала сохранность тайны шелка.
А население Поднебесной расплачивалось за эту внешнюю неприкосновенность утратой укромности в частной жизни. Светская и религиозная инквизиция имела право интересоваться и поведением и сплошь и рядом даже мышлением подданных, не говоря о бесконечных таможенных и налоговых проверках, поскольку в Китае всегда считалось нормой, что личное богатство любого жителя должно быть подконтрольно государственным органам.
Сегодня Интернет пронизал весь мир, и по этой причине скоро и идея национального государства подвергнется пересмотру. Интернет не только позволяет организовывать международные и многоязычные «чат-линии». Любой городок в Померании может брататься с районным центром в Эстремадуре, у них найдутся общие интересы и темы, они организуют коммерцию, не ощущая потребности ни в каких дорогах, и следовательно, не нуждаясь в позволении пересекать какие бы то ни было границы. Ныне, в эпоху массовых миграций, мусульманская община Рима мгновенно связывается с мусульманской общиной Берлина.
Однако падение границ приводит к возникновению двух противоположных явлений. С одной стороны, ни одно национальное образование не в состоянии запретить своим членам знать, что происходит в других странах, и скоро ни одна диктатура не сможет отгородить своих подданных от мира. С другой стороны, централизованный надзор государств за деятельностью граждан с некоторых пор отошел к иным могущественным инстанциям, которые технически оснащены (хотя и не всегда законно уполномочены) и всегда умудряются знать, кому мы писали, что купили, где побывали, чем интересуемся и даже какой вид секса предпочитаем. Даже унылый педофил, который в деревенской тиши хранит в секрете противоестественную страсть, испытывает искушение — а не открыться ли миру, не обнажить ли постыдные тайны своей души он-лайн. На нашу сегодняшнюю частную жизнь, которую мы желаем предохранить от поругания, посягают даже не хакеры (они — явление такое же нечастое, как и разбойники с большой дороги; флибустьеры бывали во все времена); нет, на нее посягают всевозможные cookies[119] и прочая технологическая чертовщина, позволяющая собирать какую угодно информацию о нас.
По телевизору показывают «Большой брат». Узкая группа людей по собственной свободной воле позволяет весьма многочисленной массе людей глазеть на собственную жизнь днем и ночью. И те глазеют с азартом. Но Оруэлл описывал совсем иного Большого Брата. Большой Брат у Оруэлла — это узкая группа номенклатуры, которая отслеживала приватные действия членов огромного общества, шпионила за любым человеком вопреки его воле. У Оруэлла описано действие, обратное телевизионному; а в телевизоре миллионы наблюдателей смотрят на одного эксгибициониста. Это что-то вроде panopticon у Бентама[120], где многочисленные сторожа наблюдают, скрытые, скрытные, за одним приговоренным. У Оруэлла Большой Брат являлся аллегорией фигуры «отца»-Сталина. В наше время Большой Брат, наблюдающий за нами, лишен лица. Он не единоличен. Большой Брат — это глобализованная экономика. Так Власть у Фуко[121] являет собой нечто неопознаваемое — комплекс центров, вступающих в игру и поддерживающих друг друга. Так и в реальной жизни уполномоченные подобных властных центров шпионят за людьми, делающими в супермаркете покупки, а потом и сами становятся объектами наблюдения, как только соберутся заплатить кредитной карточкой за гостиницу. Эта власть неопознаваема, она не имеет лица — то есть, она непобедима. По крайней мере, подобную власть очень трудно контролировать.
Теперь о сути понятия «privacy». В моем родном городе каждый год разыгрывают комедию о Джелиндо. Это религиозно-комические спектакли, действие происходит в Вифлееме, действуют пастухи, все разворачивается во время рождества Спасителя, но в то же время обстановка действия — область, где я родился, окрестности Алессандрии, в комедии выведены обычные пьемонтские крестьяне. Играют ее на диалекте, на диалекте строится весь комизм, герои переходят бродом Танаро (это река в моих краях) — и при этом ругают царя Ирода за дурацкие и вредные постановления нашего нынешнего правительства. Что до характеров и ситуаций, с туповатой красочностью комедия представляет характеры пьемонтцев, которые, как известно, замкнуты и ревниво относятся к укромности своей частной жизни и личных чувств.
Появляются, как положено, волхвы, встречают некоего пастуха Маффео, просят показать путь в Вифлеем. Этот пастух, староватый и глуповатый, говорит, что не знает пути, и предлагает расспросить своего хозяина Джелиндо, который вот-вот придет. Джелиндо действительно приходит, видит волхвов, они задают вопрос — он ли Джелиндо. Следует не слишком интересный диалог Джелиндо с волхвами. Интереснее следующее: Джелиндо спрашивает у пастуха, откуда иноземцу стало известно его имя.
Маффео признается, что имя сообщил он. Джелиндо свирепеет и обещает отколотить Маффео, потому что негоже-де имени гулять по свету как разменному пятаку. Имя является личным достоянием. Обнародовав чье-то имя, причиняют ущерб его носителю, отнимая у него часть privacy. Джелиндо, конечно, термин privacy неизвестен, но именно эту укромность неприкосновенной частной жизни он столь решительно защищает. Владей Джелиндо более интеллигентной лексикой, он сказал бы, что стремится к конфиденциальности, к отъединенности, или что защищает личное пространство.