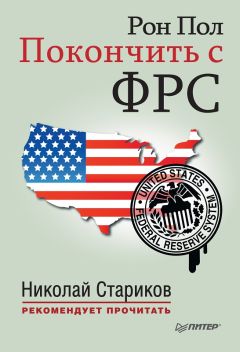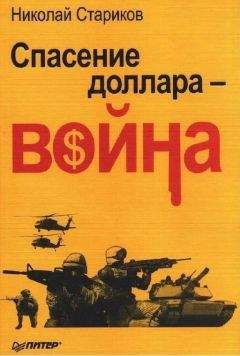Олдос Хаксли - Серое Преосвященство: этюд о религии и политике
«Добродетель, — писал автор «Облака», прямо цитируя Ришара Сен-Виктора, — ничто иное, как получившая порядок и меру любовь, устремленная к Богу ради Него Самого». Св. Августин ту же идею выразил словами: люби и делай что хочешь. Научившийся любить Бога пламенно и непрерывно может безопасно делать все, что пожелает, потому что он никогда не пожелает ничего дурного.
Берюлль и его последователи часто противопоставляли свой метод методу языческих и немистических моралистов. Моралист, утверждали они, старается стать добродетельным, укрепляя свою сознательную волю. Его метод заключается в принятии ряда решений выказать какую-то конкретную добродетель. Выполнение решений — это добродетель в действии, и можно ожидать, что в конце концов оно приведет к созданию привычки. Недостаток такого метода, как указывали психологи всех времен и народов, — в том, что он имеет дело только с поверхностными слоями сознания, подсознание оставляя более или менее незатронутым. Но импульсы к действию, влечения и отталкивания берутся главным образом из нашего подсознания. Следовательно, предлагаемый моралистами метод самовоспитания принципиально недостаточен. «Мы должны совершать добродетельные поступки, — говорит Берюлль, — не столько из любви к самой добродетели, сколько ради и в честь Иисуса Христа». И поступать так следует не только потому, что всякая истинная религия теоцентрична, но и потому, что теоцентризм приводит к лучшим этическим результатам, нежели антропоцентризм и морализм. Как говорит один из современников и последователей Берюлля, «если человек хочет окрасить кусок белой ткани в пурпурный цвет, он может поступить двумя способами: либо наносить краску на ткань — занятие, отнимающее много времени, сил и труда; либо погрузить ткань в краску — дело совсем нетрудное. Так же и с добродетелями; добродетель — это краска в сердце Иисуса Христа, и когда любовь, преклонение и прочее, чего требует религия, погружают туда душу, она легко принимает нужную окраску». Погружение в краску совершается с помощью «прилепления», с помощью деятельного, но смиренного и самоотверженного предания души на волю божественного объекта поклонения, каким в практическом благочестии Берюлля бывает обычно Христос, иногда — Дева Мария, и лишь редко, как у настоящих мистиков, — то безвидное Божество, которое открывается как высшая реальность в непосредственном опыте.
Превосходящая коперникову, революция Берюлля имела глубокие, далеко идущие и катастрофические последствия. С конца семнадцатого века и по конец девятнадцатого мистицизм практически исчез из католической Церкви. Как у любого исторического события, причины его исчезновения многочисленны и сложны. Однако нет никаких сомнений, что среди этих причин важное место принадлежит берюллевой революции. Заменив лишенное признаков Божество прежних мистиков Христом и Девой Марией, Берюлль фактически гарантировал, что ни один приверженец его практического благочестия не сможет дойти до высших ступеней слияния с Божеством или просветления. Созерцание лиц и их свойств требует большой меры аналитического мышления и непрерывной работы воображения. Но аналитическое мышление и воображение — это именно те вещи, которые мешают душе достичь просветления. По этому вопросу единодушно и настойчиво высказывались все великие мистические писатели — и христианские, и восточные. Таким образом, начинающий мистик, слушаясь Берюлля и выбирая предметом любви и созерцания не Божество, а некое лицо и его свойства, воздвигает непреодолимую преграду между собой и высшими ступенями слияния.
С этой точки зрения интересно сравнить Берюлля и берюллизм с Игнатием Лойолой и иезуитской школой благочестия. Судя по всему, Лойола был прирожденным мистиком, отвергшим дар пассивного созерцания ради активной медитации, основанной на аналитическом мышлении и воображении. Антропоцентричные и моралистичные, его «Духовные упражнения» стоят вне области мистической литературы и малопривлекательны для людей мистического склада. Воспитанные на «Упражнениях», богословы-иезуиты чаще всего не знали о высших мистических состояниях, а не зная о них, отрицали самую их возможность и на тех, кто утверждал, что подобные состояния существуют, смотрели с подозрением и даже активно их преследовали. Влияние Берюлля и его приверженцев имело более тонкий характер, поскольку они революционизировали мистицизм изнутри. В отличие от Лойолы, Берюлль не отказался от своих мистических даров. Он проповедовал теоцентризм, традиционный среди мистиков вплоть до эпохи св. Хуана де ла Крус, и практиковал их традиционное «прилепление». Отсюда притягательность его сочинений для людей мистического склада; отсюда глубина и проникновенность его влияния; отсюда же и роковые последствия того, что он подчинил непосредственный мистический опыт персоналистской теологии. Конечно же, Берюлль искренне верил в то, что душа может прилепиться к Воплощенному Слову или к Деве Марии точно таким же образом, как она может прилепиться к Богу, и с теми же последствиями. Но это невозможно психологически. Нельзя прилепиться к лицам или к личным свойствам, не прибегая к анализу и воображению; а там, где действуют анализ и воображение, сознание не в силах вместить бытие Бога. Берюлль направлял потенциального мистика на тот путь, который по самой природе вещей не может привести к конечной цели мистицизма. Его путь мог привести к добродетели, поскольку (как убедительно в наши дни доказал Куэ) для этих целей воображение эффективнее, чем воля; душу можно сделать добродетельной, окрасив ее в содержащемся в ней самой образе чужой благости. Этот же путь мог привести к горячему молитвенному поклонению Божественным Лицам и к неустанной деятельности ради Них. Но он не мог привести к слиянию с высшей реальностью. Так же как и иезуитов, приверженцев Берюлля сама природа их благочестия обрекала на духовное невежество — тем более губительное, что оно принимало себя за знание. Господство подобного невежества среди искренних и добродетельных людей и привело к реакции против мистицизма во второй половине семнадцатого века. Жестокость этой реакции оправдывали заблуждениями квиетистов. Но на самом деле, ни Молинос, ни госпожа Гюйон не написали ничего, чего не смог бы исправить минимальный здравый смысл. Главной виной квиетистов было то, что они продолжали традицию мистицизма Псевдо-Дионисия, последним великим представителем которой был св. Хуан де ла Крус. Им не было места в том мире, где благочестие иезуитизма и берюллизма только что достигло кульминации в культе Сердца Иисусова. (Жан Юде, канонизированный как Отец, Учитель и Апостол этого культа, был берюллийцем, а откровениям Маргарет Мари Алакок покровительствовали иезуиты). К концу семнадцатого века мистицизм утратил свое былое значение в христианстве и был более чем наполовину мертв.
«Ну и что? — скажет кто-нибудь. — Почему бы ему не умереть? Какой от него прок, когда он жив?»
Ответ на эти вопросы таков: где нет видений, гибнут люди; и если те, кто есть соль земли, теряют силу, уже нечему хранить землю в чистоте, нечему предотвращать ее полное разложение. Мистики — это те каналы, по которым хоть какое-то знание о реальности просачивается в человеческую вселенную невежества и иллюзий. Окончательно лишенный мистиков мир будет миром окончательно слепым и безумным. С начала восемнадцатого века и до сих пор число источников мистического знания постоянно сокращается по всей планете. Мы опасно далеко зашли по пути, ведущему во мрак. По трагической иронии (конечно, благодаря сопровождавшему их благие намерения невежеству) и экстатический отец Бенет, и блестящий и праведный Пьер де Берюлль занимают свое место среди тех, кто способствовал помрачению человеческого духа.
Глава 4
Проповедник
В предыдущей главе я обрисовал религиозный фон — исторический, современный, человеческий, — на котором протекала жизнь отца Жозефа. Глубокое католическое благочестие — отчасти мистическое, отчасти эмоциональное и образное — служило неизменной декорацией, на фоне которой разыгрывались эпизоды его политической карьеры, требовавшие разъяснения и оправдания в его собственных глазах в связи именно с этим фоном.
В первые годы монашества деятельность отца Жозефа была исключительно религиозной. Его карьера началась, как мы помним, с годичного послушничества в Орлеане. После обетов в Париже его отправили в капуцинскую семинарию в Руане. Обычно обучение длилось четыре года; но новый ученик знал уже так много, что ему зачли и вступительный годичный курс философии, и первый год из трехлетнего курса теологии. В семинарии в молодом монахе увидели обладателя значительных духовных даров, пылкого молитвенника, неутомимого благотворителя, горящего праведным желанием святости. В посте и трудах он накладывал на себя дополнительные строгости; до того тщательно смирял гордыню, что никто не слышал его рассказов ни о прошлой жизни, ни о нынешних желаниях, ни о планах на будущее; во всех обстоятельствах он стремился сделать больше, чем был обязан.