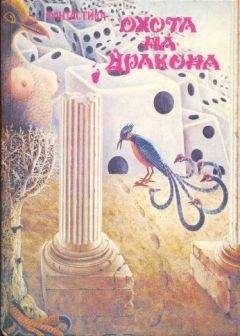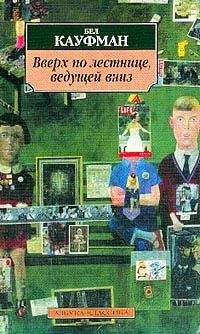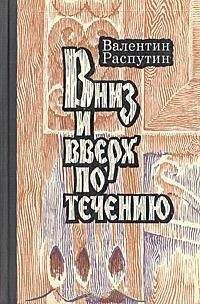Александр Росляков - Роман с урной. Расстрельные статьи
Чуть не сломав об чуждый крест руки.
А те, которых влек к духовной пище,
Налопавшись ее, еще смелей
Пошли обманывать народ и грабить,
А батюшки — грабеж благословлять!
Согнал, как мух, с реформы паразитов –
А толку? Я их в дверь — они в окно!
Отборных реформаторов поставил:
Ума — палата, взяток — не берут;
За них сейчас же стали брать другие…
Фемиду европейскую привел –
Дала в суде урлу. И две реформы,
Как Молох, жрут в два горла мой народ!
Культурный фронт хотел отдать самим же
Культурным мастерам — они грызню
Промеж себя устроили такую,
Что лишь насилу растащил Швыдкой…
И вот тогда меня взяло сомненье:
Не я ли сам во всем и виноват?
Но в чем вина? Тот отрок убиенный,
Нагадивший известному царю –
Кто для меня? Из жертв Чечни, которой
Не я виновник — или все же я?
Юнец, совсем зеленый, с «Курска» или
С другой подлодки? — я их не топил!
И призывник, замерзший на этапе,
Кровавый гость не мой — иль все же мой?
Кого я точно затопил — Скуратов,
Но тот — не мальчик, вот с такой елдой!
Хотя пути Господни непонятны:
Вдруг этот сукин сын — мой грех и есть?
Тем паче, что через его стыдище
Я и взошел на трон — рукой того,
Кто вынудил меня и всех на мерзость…
А может… страшная догадка… нет,
Ужасно выпустить из сердца даже…
А вдруг вина не в том, что я убил,
А в том, что… не — чего-то иль кого-то?
И тот испуг, что я ношу в такой
Глуби души, куда сам Бог не входит,
На самом деле стал взамен меня
Царем страны — и вьет ей смертный кокон!
Кто в душу мне его занес — уж мертв.
Но кто все той же окаянной властью
Там закрепил — еще средь нас живей,
Как говорится, всех живых!.. И всуе
Злорадством робким пламенеет грудь:
Когда я сам не поражу злодея,
Его конец продлит до бесконца
Его тиранство надо мной и всеми…
Но если бы я знал, что мой удар
Закроет кровоточащую рану,
А не откроет новую!.. Ведь есть
Закон: кто сам, из лучших целей даже,
Черту переступил хотя бы раз!..
Вот в этом страхе и ответ: душа
Для львиной доли и должна быть львиной!
А я, король микроцефалов, я
Так и не смог смирительные путы
Сорвать с души и над собой взойти!
Вот потому и не выходит править
Даже каким-то Грефом и Швыдким!..
Так что ж тогда — отречься от венца?
Звезда Кремля — что, значит, не моя?
А впрочем, может, это и не самый
Дурной исход. Перемочить врага –
Не на одной Руси умели сроду.
А вот отречься от несносной Шапки!..
Или убить дракона? Или вовсе
Не трогать ничего — и пусть гниет?..
(задумывается, сморщив лоб;
потом морщины расправляются)
Моя отставка в цвете сил и власти –
Не по расчету, дабы замести
Следы злодейств былых в угоду новым,
А чтоб порвать порочную их цепь –
Как вход в какой-то небывалый Гиннес,
Как истинный полет меня!.. Ну что ж,
Тогда недолго и распорядиться.
Ну а указ — уже весь здесь…
(прикладывает к виску палец и нажимает
другой рукой кнопку на столе)
Голос помощника
Чего
Изволите?
Путин (в страшном смятении, безмолвствует)
Занавес.Газетное очко
Давно меня подмывало, и все как-то не добром, написать о родных братьях-журналистах. Когда я еще только начинал таскать по редакциям свои незрелые заметки, пытаясь достучаться тем, что понимал под словом «правда», до сердец, один мастак из старой «Правды» мне сказал:
— Кому ты глаза хочешь откупорить, поц? Да я такую правду знаю, что тебе не снилась! Тут не правду пишут, а играют в игры. Хочешь тоже — учись, а нет — пшел вон!
Я тогда, конечно, оскорбился страшно — и лишь много после понял, что этот циник был, пожалуй, самым искренним из всех, кто так или иначе пытался отесать мое перо.
Сначала меня как-то потянула к себе ходкая тогда сельская тема — хоть я и сам смеялся над крамольной лирикой официального сельхозпоэта Щипачева:
Дед забрался на полати,
гусь пасется на лугу.
На аграрную темати —
ку я больше не могу.
Но пошлют меня в командировку, привезу заметку — и чуждые крамольных струн редактора толкуют мне:
— Ну вот ты пишешь: ужас, грязь на ферме, комсомолка удавилась. Но ты сам молоко пьешь? И я пью. А прочтет это молодая девушка, выбирающая путь в жизни, и ни за что уже дояркой не пойдет. Нам бы селу помочь — а ты его совсем уничтожаешь!..
Или:
— Вот у тебя секретарь райкома — негодяй. Но давай рассуждать. Значит, человек рос, выдвигался, никто за ним плохого не замечал, а Александр Васильевич приехал — и заметил. Значит, все не в ногу — один Александр Васильевич в ногу. Так получается?
То есть во всех несчастьях издыхавшего застоя сразу почему-то оказался виноватым я. А его оракулы, затем как-то без запинки перешедшие в его хулители, при этом процветали всласть. Жрали, не зная горя, в Доме журналистов водку и коньяк и щедро потчевали шампанским, еще весьма качественным, своих баб.
Первым таким оракулом для меня стал Олег Максимович Попцов, главный редактор популярного при нем журнала «Сельская молодежь». Там на правах внештатного корреспондента я протянул два года, за каждый из которых, кстати, заработал звание лауреата. Но мне, естественно, хотелось нестерпимо в штат — дабы с законной корочкой сводить и свою кралю в знаменитый тогда ресторан Домжура.
Но только дело к корочке — как у меня с Попцовым, относившимся ко мне, по правде говоря, достаточно тепло и терпеливо, какой-нибудь конфликт. Читаю свои гранки — и вдруг натыкаюсь на невесть откуда взявшуюся там, ни к селу, ни к городу, цитату Брежнева. Кричу: «Кто эту гадость мне вписал?» — «Олег Максимович». Врываюсь в его кабинет: «Какого черта?»
Он терпеливо и с присущим ему остроумием пытается мне втолковать какие-то нюансы дескать обязательной для всех игры. Но видя, что я в этих играх полный и еще упрямый идиот, терпеж теряет и орет:
— Чистеньким остаться хочешь? Не получится! Будешь как все!
Но тогда в чем была лафа: так как печать принадлежала государству, а значит, в том числе и мне, я ощущал себя в моральном праве упираться и скандально требовать свое. И выпертый Попцовым, иду к редактору отдела Сереге Макарову, тоже был очень добрый и душевный человек, и начинаю доставать его. В итоге он хватает со стола телефон — и запускает им в меня:
— Будешь бакланить, сука, я тебе такую правку впишу, до конца жизни не отмоешься!
Но при всем этом люди были все же не в пример душевней нынешнего, мирились быстро, и Макаров вскорости мне говорит:
— Ладно, примем тебя, дурака, в штат, но с условием. Ты все мараешь негатив, сделай один хороший очерк. Душой кривить тебя никто не просит, найди сам, где хочешь, положительный пример, ну где-то ж должен быть!
И я отправился в Смоленскую область надыбывать необходимый для заветной ксивы позитив. Нашел Героя Труда по фамилии Эльгудин, председателя колхоза-миллионера; но покрутившись по его хваленому хозяйству, вижу, что герой — мерзавец редкий. У него лапа чуть не в Политбюро, все цифры — дутые, убийства, мордобои по заказу, и весь район дрожит перед его разбойничьим гнездом. Тогда такие гнезда, как у знаменитого узбекского Адылова с его зейданами, водились по всему Союзу. И надо ж мне было нарваться как раз на одно из них!
Собрав в милиции и прокуратуре кучу улик на изверга и едва унеся ноги от его громил, я пишу очерк и несу его Макарову. Прочел он, вздохнул тяжко — и понес Попцову. Тот, надо отдать должное, не бросил мне мое творенье в морду сразу, а сперва отнес в ЦК комсомола, чьим органом была «Сельская молодежь». После чего все-таки в морду бросил — но я обиделся на него даже не за это.
Ладно сказал бы прямо то, что мне уже сказали: сверху дали отворот. Но он давай мне с эдаким еще оракульством внушать, что дело все в художественной неубедительности очерка. То есть пока я в самое кровавое дермище не залез, все было убедительно и я дважды лауреат, а тут сразу — неубедительно!
А кончилась вся наша с ним зыбкая любовь, когда я выдал ему новый очерк, его долго держали, потом сильно порезали и собрались печатать. Но я снес то же самое в очень престижный тогда «Новый мир», где взяли — а потом и напечатали — все целиком. И я на радостях накатал Попцову очень смешное послание, озаглавленное патетично «Нота», где слал всех к черту и требовал не сметь мой искаженный труд публиковать.