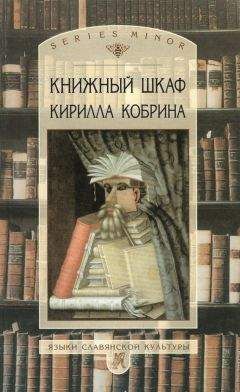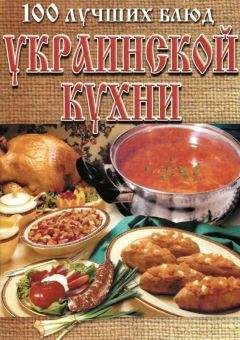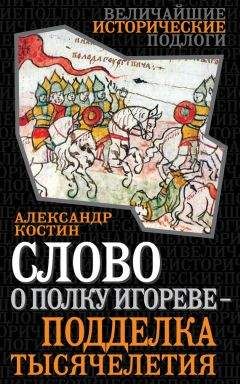Нина Воронель - Моя книжная полка. Мои собратья по перу.
Наивно было бы предполагать за Главинжем какие-нибудь особые таланты: этот, соответствующим образом воспитанный советской школой, надежно отшлифованный социалистической реальностью, отлично смазанный и подогнанный винтик бюрократической системы не пишет музыку и не слагает стихи. Но художественная бесталанность отнюдь не умаляет его главной моцартовской черты: он живет в необычном согласии с собой. Еще М.Гершензон заметил, что главное в Моцарте — его внутренне насыщенная собой сила, его гармоничное согласие с собой. Этой силой и гармонией полон Главинж и в этом он — Моцарт, независимо от реальных обстоятельств его жизни.
Вместе с Секретарюком приехал он из южного провинциального города в Москву на семинар по повышению квалификации. Казалось бы, что за занятие для Моцарта быть главным инженером заштатной конторы "Сельэлектро", где главное дело — нагреть руки на каком-нибудь жульническом злоупотреблении служебным положением? Однако ни убогая контора в родном убогом городишке, ни убогая комнатенка в убогом районе Москвы, которую снимает Главинж у убогой старушки Татьяны Степановны, не омрачают возвышенного состояния его духа:
"...учтите, что я недавно взвешивался после парилки, — во мне 92 кило, а меня несло как бы по воздуху. Это была полнейшая согласованность, как бы слияние с чем-то разлитым вокруг, какая-то абсолютная гармония со всем, что меня окружало: тротуарами, зданиями, прохожими, троллейбусными проводами и рекламой".
Именно эта гармоническая уверенность Главинжа в себе, выглядящая порой ординарным самодовольством, навеки припаяла к нему неудачливого Секретарюка, посвятившего свою захудалую жизнь неистребимой зависти к Главинжу. Он довел эту зависть до вершин поэтической страсти, она стала для него источником творческого вдохновения. В повести Гиршина Моцарт и Сальери как бы меняются местами: если Глав¬инж в полноте своей самосогласованности и не стремится ни к чему возвышенному, ощущая каждой клеточкой своего шестипудового тела, что он и так хорош, то несчастный Секретарюк изводится в тисках своей зависти. Стремительностью своих метаний он создает громадную подъемную силу, уносящую его далеко от мелких подробностей невзыскательного бытия.
Кощунственность такого поворота темы оправдывается словами Гершензона, сказанными в "Мудрости Пушкина": "ад ущербного существования состоит в том, что душа безнадежно жаждет наполниться... и страсть вулканическим взрывом наполняет душу".
В ущербном сознании Секретарюка его неизменно удачливый со-товарищ вырастает в существо демоническое, пугающее своим мистическим влиянием на окружающую жизнь. Одна из их общих приятельниц по имени Аве Мария показывает ему на полу своей комнаты овал, очерченный мелом, поясняя, что здесь стоял (сидел, лежал, словом — присутствовал) Главинж. И бедный Секретарюк отшатывается в ужасе, ощущая как его невзрачное тело пронзает поток невидимых волн, излучаемых могучим силовым полем, сконцентрированным в очерченном мелом пространстве.
И хоть не вполне ясно, существует ли этот овал в реальности или только в лихорадочном воображении измученного завистью Секретарюка, не остается сомнения, что все, связанное с Главинжем, полно для бедняги мистического значения.
Сама их несносная нерасторжимость представляется Секретарюку реальной, а не психологической связью. Он ни на секунду не забывает о телевизионном кабеле, которым связал его с Главинжем фантастический извозчик, колесящий по Москве на старой пролетке, запряженной терпеливой лошадкой, которая то и дело роняет комья навоза под колеса троллейбусов.
Кабель этот, равно как и извозчик, то и дело возникает на страницах повести с пугающе достоверными подробностями. То этот кабель закреплен вокруг левой руки Секретарюка и вокруг правой руки Главинжа, то он колеблется на грани разрыва, пока обезумевший Секретарюк мечется в бреду по ночной Москве, пытаясь починить истершиеся его волокна. А Главинж спокойно спит, даже не подозревая о роковой опасности.
Впрочем, особенно волноваться Главинжу не стоит: нить эта по-настоящему не может быть оборвана, ибо многолетнее сосуществование превратило их с Секретарюком в сиамских близнецов. С того далекого дня, когда оба они молодыми инженерами сразу после института дружно переступили порог конторы "Сельэлектро", тянется эта нить к последнему этапу драмы зависти, завершающейся трагически где-то в переплетении московских переулков возле Кировского метро.
Равными и полными надежд вошли два молодых инженера, два друга, в захудалую контору "Сельэлектро", и на этом равенство их закончилось. Веселый, всегда довольный собой и обстоятельствами Главинж пошел вверх по служебной лестнице, а незадачливый Секретарюк так и остался навечно у потертого, за-литого чернилами стола в общей проходной комнате младшего персонала.
Неважно, какое место в современном прогрессе занимает "Сельэлектро" отдаленной южной провинции, ибо "всюду жизнь", и все определяется не абсолютной величиной достижений, а относительной. И если поместить точку отсчета в кабине¬те главного инженера захолустной конторы, то сила зависти, сосредоточенной вокруг этого кабинета, вполне может быть сравнима с силой зависти посредственного композитора к гениальному. Дальше остается только выбор места, времени и оружия — а роковой исход уже предрешен классикой.
Но тут Марк Гиршин предлагает нам новое решение темы и неожиданный финал повести. Уже ясно из заданного сюжета, что, несмотря на мелкость поводов и незначительность окружающей обстановки, накал страстей неминуемо подводит героев к вопросу "или — или?". Но в столкновении Главинжа и Секретарюка автор повести поворачивает острие противостояния не против беспечного Моцарта, а против злокозненного Секретарюка-Сальери. Запутавшись в собствен¬ных безумных построениях, он, слегка подталкиваемый беспечной рукой Главинжа, попадает под колеса тяжелого грузовика и умирает в больнице Склифосовского. Причем ему самому, за¬травленному непреодолимой сладостно-мучительной завистью, кажется, что он добровольно выбрал свою погибель, а может быть, так оно и есть:
"Я слез с пролетки и заполз под колеса. "А теперь возьми и переедь меня", — попросил я. "Как это, переедь!" — извозчик постучал себя кнутовищем по лбу. "А вот так, — сказал я, — тронь лошадку". И прежде, чем он успел опомниться, я обратился к лошади "Н-но!.." И послушное животное сделало шаг..."
Почти половина повести посвящена судебному процессу над Главинжем, обвиняемым в подстрекательстве к самоубийству. Основой для этого обвинения служит исписанная чернилами и частично кровью тетрадка, которую Секретарюк оставил Аве Марии на случай своей гибели.
Суть дела не в подробностях процесса и не в исходе его, а в неожиданном, издевательски феерическом перевертыше. В то время, как человечество все еще теряется в догадках относительно злодейства Сальери — убивал или не убивал? — Гиршин, как ни в чем не бывало, подносит нам Моцарта, судимого за убийство Сальери.
Но как не находит облегчения Сальери, подсыпав яд в бокал своего гениального друга, так и Главинж после похорон Секретарюка ощущает вдруг острую тоску по своей незадачливой тени: жизнь отныне как бы потеряла для него остроту, стала бесцветной и пустой. Ни к чему привычные усилия для дальнейшего продвижения вверх, — кто теперь их оценит самой высокой мерой — завистью, замешанной на восхищении, на вечном неосуществимом стремлении слиться, разделить, причаститься благодати?
Ах, как понятно это чувство мне, вот уже тридцать лет заключенной в тесном отсеке израильского подразделения русской литературы, где вся атмосфера до отказа насыщена завистью! Но не стоит самоуничижаться – прочитавши отважную книгу Льва Аннинского «Три еретика», описывающую золотой век российской словесности, я убедилась, что и у букашек и таракашек тоже все было, как у нас.
О, как они умели завидовать и ненавидеть! Независимо от величия и признания, Тургенев завидовал Достоевскому, Достоевский – Лескову, Лесков - Салтыкову-Щедрину, и все они скопом Писемскому. Как исступленно они считали чужие ошибки и чужие гонорары – ну совсем как мы!
Но вдумавшись, я не нашла в своей душе достаточных оснований для осуждения. Жизнь писателя-прозаика безрадостна – отказывая себе в простых радостях жизни, он превращается в отшельника- человеконенавистника, чтобы денно и нощно горбиться над компьютером (можно заменить на «над письменным столом»), достигая очень немногого за долгие часы изнурительного труда.
И вот наконец после нескольких лет мучений роман готов! Кто разделит радость автора? Где сегодня найти преданных друзей-поклонников, с нетерпением ждущих появления нового творения? Даже у жены (можно заменить на «у мужа») нет времени вчитаться и вникнуть.