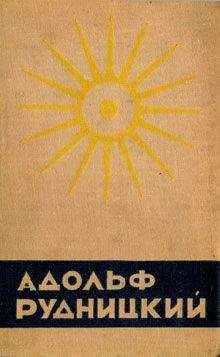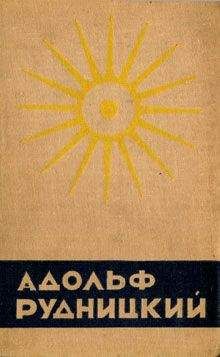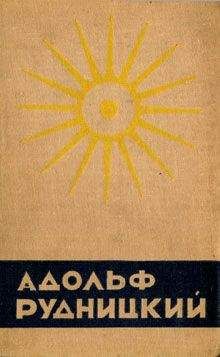Адольф Рудницкий - «Голубые странички»
Громкий стук в ворота. Стоит ли описывать, что чувствуешь в такую минуту? В наши времена сердце начинает колотиться независимо от того, кто нарушит тишину ночи. Потом эта буря в крови вызывает только улыбку. Пришел запоздавший жилец, обладатель ночного пропуска.
Я перестал прислушиваться. Хочется спать; но есть одна мысль, которая мучает меня не меньше, чем ожидание жандармов. Вскочив с кровати, я подбежал к комоду, извлек оттуда тетрадь, журналы и две книжки. Я раскидал их на столе, придвинутом к кровати, уткнул голову в подушку и долго, долго не решался заглянуть в них, как ни хотелось мне еще раз убедиться, что я ошибаюсь, быть может, все-таки ошибаюсь и для самой страшной моей муки нет причины.
Ян не включил сегодня свет, горит карбидная лампочка, жандармы уже много раз прошли мимо дома и вернулись и снова прошли, а я по-прежнему лежу не шевелясь. Я оттягиваю момент самопроверки, который причинит мне боль, такую жгучую и глубокую, какую не в силах причинить мне немцы, боль, которая остынет только у стены с детства знакомой улицы; неподалеку отсюда улица эта перекрыта заграждением из жандармских морд, автоматов и автомашин, а вдали — небом, насыщенным ароматом всего минувшего, — как яблоко, спрятанное в белье, насыщено запахом садов. Только чудом можно выйти невредимым из потока подстерегающих нас случаев, ведь каждый из них несет смерть. Не верю, что я выживу, как теперь принято говорить. «Не верю» — неточное слово. Я не верю и в то же время верю. После стольких лет непрерывно бушующей смерти не думаешь о ней. Бацилла смерти созрела, она теперь поражает не только наши мысли. Она вступила в период расцвета, изменила саму жизнь, изменила нас.
Две книжки, которые лежат на столе, написал я. Из них и сочится в меня яд, понятный лишь для посвященных. Я боюсь их. Случается, я, как дурак, прячу их в шкафу под грудой других книг, но, даже спрятанные, они причиняют мне такую же боль, как вид дома, в котором умер дорогой тебе человек. Книги эти, как и другие более мелкие произведения, я написал и напечатал на протяжении пяти-шести лет, предшествовавших сентябрю 1939 года. Однако только теперь я вижу их ошибки, удручающие меня ошибки. Война на тысячу лет состарила то, что я написал. Я читаю свои книжки и прихожу в изумление. Читаю, злюсь и осуждаю. Читаю и не узнаю. Подробности, которые в прежние времена разбегались, как капли воды на теле пловца, смазанном жиром, что-то в себе сохранили, и одно это усиливает мое раздражение. Мои книги вызывают удушье, как брошенные на чердаках, запыленные бумаги. Война уже сожгла их, хотя еще не коснулась их материальной формы. Отблески больших пожаров падают на страницы этих книг, их невозможно теперь прочесть, они стали бесформенными, как пролеты моста, в которые попал снаряд. Жизнь ушла из них, как из степи, искромсанной танками Мое искусство кажется мне убогим. Убогим!..
Я не понимаю и не знаю человека, который писал ли книги. А все говорят, и всегда будут говорить, что я их автор. И после моей смерти сохранится именно то, что вызывает во мне невыразимую ненависть, именно то, что я считаю карикатурой на себя, что унижает меня и наполняет непритворным отвращением к себе, и не останется даже следа того великого и бессильного сознания, способного — о боже, ведь никто не догадывается, на что оно способно! Значит, писать? Значит, писать наново? Ба, для искусства, рождающегося из нового осознания мира, нужны годы, как годы нужны были нам для того, чтобы понять свои ошибки… А тут налеты, а тут обыски, а тут под окном жандармы, казни на улицах, ночи над пропастью, да и дни такие же — каждый час для тебя как бы последний! Я уже потерял надежду… Значит, источники обоснованной — как когда-то казалось — веры в себя высыхают именно там: на забытых, никогда и никем не посещаемых кладбищах литературы, где зарастают травой разбитые могильные плиты с фамилиями, серыми, как цифры? Значит, эти сверх меры печальные кладбища предназначены именно для таких, как я? В них похоронено столько возвышенных, безумных, великолепных, небесных снов, сколько я сам перевидел, и сны мои не оживит, не согреет солнце лета, не упрочит, не позолотит мудрое солнце осени? Значит, так, на этом кладбище все кончится?
Бессмертие? Бессмертие не насыщает. Для меня утрата веры в бессмертие не так мучительна, как для человека религиозного утрата веры в вечную жизнь. С муками мы ищем в искусстве то, что в нем быть должно, как мы это ясно понимаем. В скрытых от чужих глаз тайниках души мы ставим перед собой задачи, которые стремимся решить, доходя до границ одержимости. А что представляет собой «ясное понимание», что представляет собой «моя внутренняя задача», если судить по двум книжкам, которые лежат на столе? Поражение в искусстве, подобно краху в любви, надламывает человека. Меня неотступно преследует воспоминание о художнике Карвовском, который проникся таким отвращением к одной из своих картин, написанной в труде и муках, что вскочил среди ночи и изрезал ее на куски. Я слышал об этом несколько лет назад, но по-настоящему услышал только сегодня.
В моих книжках мне непонятны ни люди, ни стиль, ни проблемы. В моих книжках? Целое поколение писало в такой манере. Литература периода независимости проснулась первого сентября 1939 года постаревшей на сто лет. Недавно кто-то сказал мне, что наш знакомый П. — это художник класса Рафаэля, только в противоположность Рафаэлю он живет в неблагоприятный для искусства век. Значит, нужно, чтобы тебе повезло и с веком, в котором ты живешь? Там на столе лежит одна небольшая вещица — рассказ. Сегодня он мертв, хотя я помню, какое впечатление он произвел на всех, когда появился. Значит, посвященные ошибаются так же, как и профаны? Значит, и у тех и у других глаза деформированы в силу ограниченности или излишеств их времени? Значит, те и другие в искусстве ищут необходимой им компенсации и ищут ее всегда, даже тогда, когда им кажется, будто они ее не ищут? Значит, все мы находимся не впереди эпохи и не позади ее, а в самом центре, и, когда время уходит, высыхают тысячи источников, которые питали душу искусства? Значит, когда меняется время, иссякают тысячи старых источников и возникают тысячи новых? Значит, новое время изменяет наше видение мира? И по-новому глядя на эти питавшие нас источники, мы некоторые из них воспринимаем, как дождь в полосу засухи, а другие вселяют в нас ужас, как голодная смерть — медленная, жестокая, трезвая?
Под окнами один из жандармов говорит другому:
— За Луцком, Петер, кончается Европа и начинается равнина, eine Ebene, eine glatte Ebene, und nichts als Ebene.
Слова эти вгрызаются в ночь, ночь начинает вибрировать бескрайностью степей, степи обступили город, ты сказал бы, город утонул среди них.
Вы, которые вернетесь к прерванному слову, вы, у которых будет шанс на победу, воздайте почести каждому в меру его страданий. Вспомните друзей, которые не добавят уже ни одной буквы к тому, что сказали, которые оставят свое произведение, как недостроенный дом, в котором никто никогда не поселится. Вспомните их ночи отчаяния над книжкой, над недоношенной книжкой, после которой не появится зрелая. Вспомните ушедших друзей, ибо достоинство наше измеряется тем, как чтим мы наших мертвецов.
И, склонившись над трепещущими братскими сердцами, чье слово, зачатое в муке, осталось только бормотанием, — содрогнитесь!
1945
Запоздалая ветка сирени
1
Нам никак не удавалось найти домик, который мы искали на неровной, извилистой, уползавшей в гору улочке За Стругом, с нелепо разбросанными «номерами» — их было меньше, чем поворотов и деревьев; нас окружала глухая тишина ночи, хотя еще не пробило и девяти, глаза слепил снег, падавший большими мокрыми хлопьями. Казалось, что за непроницаемой тьмой горизонта кончается мир. Газда[1] молча подталкивал кузов санок. Он уже два раза заходил в темные хаты, где долго и таинственно пытался узнать нужный нам адрес: мы искали скульптора Кенара. Он жил совсем в другом месте, но где-то здесь жил человек, который мог нас к нему отвести. Уже несколько часов в закопанском морге лежали останки Юлиана Тувима, нужно было снять посмертную маску, а в таких случаях дорога каждая минута, черты искажаются, вот почему следовало спешить, и мы с Северином Поллаком отправились на пустынную улочку За Стругом.
Хотя врачи считали, что сердце у поэта в удовлетворительном состоянии, и даже советовали ему поехать в Закопане, он чувствовал себя здесь не слишком хорошо. В сочельник, словно очнувшись внезапно от глубокого сна, он воскликнул: «Боже, зачем мы сюда приехали? Разве не лучше было бы в Анине? Уедем отсюда поскорее, поедем в Лодзь!» Агорафобия вынуждала его даже на маленьких расстояниях, например от «Европейской» до «Кмичица», пользоваться машиной, которая в иных районах городка бросалась в глаза, как вывеска. В воскресенье двадцать седьмого декабря за час до своей кончины поэт находился в «Кмичице», клубе, недавно предоставленном в распоряжение Орбиса. В тот день он чувствовал себя плохо и не сошел к обеду в общий зал. А недолгое время спустя, когда врач пани Томашевская, проводившая праздники в «Халаме», поспешила к нему на помощь, она удостоверила смерть в результате мозгового кровоизлияния; при этом был установлен характерный для подобных случаев паралич левой части лица. Оказалось, что в «Халаме» нет ни шприца, ни корамина, вообще никаких лекарств, необходимых при острых приступах болезни. Когда разнеслась весть о смерти Тувима, комитет партии в Закопане решил воздать почести бренным останкам поэта, до того как их перевезут в Варшаву.