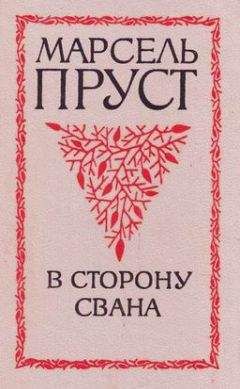Ив Сэджвик - Пруст, или чулан как спектакль (Эпистемология чулана, Глава 5)
"Но внезапно мы наталкиваемся, в середине Тетради 6 и в середине Тетради 7, ... на две серии разработок, чуждых как роману 1908 года, так и работе о Сент-Беве: разрозненные фрагменты, чье объединение [позднее] сформирует главу, озаглавленную "La Race maudite" ... и первые отрывки, посвященные "ядрышку" Вердюренов. Наконец в середине Тетради 7 мы можем вычитать решающий признак - возникновение барона де Шарлю, представленного здесь под именем де Герси [M. de Guercy]; и в этот же момент мы открываем для себя безымянный пляж".
Как подытоживает Риверс, "Бардеш показывает, что эти эксперименты с гомосексуальностью как литературной темой придали работе Пруста "новую ориентацию". И он приходит к выводу, что именно в это время Пруст "начинает понимать, что из этих фрагментов он может сделать книгу"".[9]
Если "La Race maudite" редуктивна и сентиментальна, с одной стороны, и все же, с другой стороны, стала центром катализации - единственным, как мы видим - для большого труда, к которому такие эпитеты обычно не применяются, то стоит присмотреться, а что же на самом деле мы говорим и делаем, когда ими пользуемся. "Редуктивная" наводит на мысль об отношении части к целому, где часть как будто бы претендует на адекватную репрезентацию целого через простую количественную конденсацию (как густая подливка к жаркому); однако несколько негативная форма прилагательного в то же время как бы уличает эту часть в однобокости или качественном отличии [от целого]. Как описание "Введения к мужеженщинам" в отношении к целому A la recherche, [такая характеристика] примечательным образом соответствует тому, что я описывала ранее как нерасторжимое и некогерентное сочетание в этом веке концептуальных неконгруэнтностей между миноритизующим и универсализующим взглядами на гомосексуальное определение. То есть глава, что материализует и кристаллизует как принцип [построения] персонажей "вторичный, и, в некотором смысле, разве что анекдотический вопрос о 'сексуальном предпочтении'", по необходимости репрезентирует неправильно, все ж таки репрезентируя (всякая тематизация здесь "банальная тематизация") то, что более универсальным и потому иным образом рассеяно повсюду как нарративный потенциал. Однако особенность, характерная черта и действующий импульс этого диффузного рассеяния неявным образом, но зависит от базового для него потенциала банальной тематизации; тогда как сама банальная тематизация (как в форме главы о "мужеженщинах", так и в теле де Шарлю) демонстрирует, - тогда, когда она это неконтролируемо передает, - чистую репрезентационную тревогу своей редуктивной компактификации.
Однако же, несмотря на то, что "La Race maudite" почти всегда и всюду воспринимается как дистилляция определенной миноритизующей, гендерно-транзитивной парадигмы извращения в его чистейшей форме, тем не менее она кишит разными версиями тех же противоречий, что ее окружают. Например, она чувствительна к различию между целью и объектом: "Одни из них {извращенцев} ... равнодушны к чувственной стороне наслаждения: им важно соотнести получаемое ими наслаждение с лицом мужчины. Другим ... непременно требуется локализация чувственного наслаждения" (С 645 / СГ 35).[10] И снова, в том же предложении, в котором рассказчик описывает извращенцев как таких, у которых вырабатываются - хотя и вследствие гонений - "физические и моральные особенности расы", он также предлагает некоторые элементы историзирующего конструктивистского подхода к гомосексуальной идентичности. Извращенцам, говорит он,
"доставляет удовольствие напомнить, что и Сократ был один из них ... забывая о том, что понятие ненормальности не существовало в те времена, когда гомосексуальность являлась нормой ... что только позор рождает преступление, ибо благодаря ему выживают только те, в ком никакая проповедь, никакие примеры, никакие кары не могли побороть врожденной наклонности, которая из-за своей необычности {tellement speciale} сильнее отталкивает других людей ... чем ... пороки более понятные ... с точки зрения обыкновенного человека". (С 639 / СГ 30-31)
Однако к концу главы нам дают понять, что несмотря на всю необычность, tellement speciale, эти "исключительные" существа "весьма многочисленны" "Если кто может сосчитать песок морской, то и потомство {их} сочтено будет" (С 654-55 / СГ 42). Более того, рассказчик чуть ли не осмеливается открыть читателю, что его миноритизующий подход объясняет также "нахальные" мотивы и чувства самозащиты, именно вследствие которых рассказчик (сам?) может предлагать и фальшиво миноритизующий взгляд на сексуально извращенных:
"эти изгои, составляющие ... мощную силу, присутствие которой подозревают там, где ее нет, но которая нахально и безнаказанно действует у всех на виду {etalee: разворачивается, раскрывается, разоблачается} там, где о ее присутствии никто не догадывается; они находят себе единомышленников всюду: среди простонародья, в армии, в храмах, на каторге, на троне; они живут (по крайней мере, громадное их большинство) в обвораживающем и опасном соседстве с людьми другой расы, заигрывают с ними, в шутливом тоне заговаривают с ними о своем пороке, как будто сами они им не страдают, и эту игру им облегчают ослепление или криводушие других ... ". (С 640 / СГ 31)
Из такого пассажа можно заключить, что в конечном итоге "другой расы" оказывается никто другой, как читатель, к которому пассаж обращен! Но, разумеется, его "обвораживающая и опасная" агрессия включает в себя также, в последних пяти словах, намек на то, что даже читатель, скорее всего, имеет свои собственные идентичные мотивы тайного соучастия в дефиниционной сегрегации la race maudite.
И в терминах гендера также то, что выглядит как общеизвестный тезис пра-доктрины сексуального извращения, anime muliebris in corpore virili inclusa [женская душа, заключенная в мужском теле], на самом деле представляет куда более сложный и противоречивый кластер метафорических моделей. Даже если рассуждать крайне грубо, [мы обнаружим, что] объяснение, что Шарлю желает мужчин, поскольку глубоко внутри он женщина, объяснение, которое в этой главе, да и во всей книге предлагается вновь и вновь, серьезным образом расшатывается даже на протяжении короткого промежутка между моментом, когда рассказчик впервые понимает, что Шарлю напоминает ему женщину (С 626 / СГ 20), и той последующей эпифанией,[11] что он походил на женщину, потому что "он в самом деле был женщиной!" (С 637 / СГ 28). Однако то, чему рассказчик был свидетелем в этом промежутке, - далеко не завоевание этого "я" с женским гендером другим "я", контрастно изображенным как мужское. Отнюдь, и осторожный флирт Шарлю и Жюпьена представлен в двух других ракурсах. Сперва он выглядит как зеркальный танец двойников, [движущихся] "в полном соответствии [друг другу]" (С 626 / СГ 21), исподволь подтачивая решение рассказчика отвергнуть термин "гомосексуальность" по причине его принадлежности модели подобия. В то же время - действительно потрясающе, и потрясающе не менее от того, что эта апория проходит неотмеченной - их взаимодействие изображается как ухаживание изображаемого самцом Шарлю за изображаемым самкой Жюпьеном. "[М]ожно было бы сказать, что это две птицы, самец и самка, и что самцу хочется подойти поближе, а что самка - Жюпьен - хотя и никак не отвечает на его заигрывания, однако смотрит на своего нового друга без всякого удивления ..." (С 628 / СГ 22).
Эта гендерная система образов дестабилизируется еще больше надстраиваемой над ней ботанической метафорой, в которой различие пол / гендер и различие видовое удерживаются почти репрезентирующими и потому почти перекрывающими одно другое. Обрамление "La Race maudite" включает в себя демонстрацию на окне, выходящем на внутренний дворик Германтов, редкой орхидеи ("они все - дамы"), что может быть опылена только с помощью счастливого вмешательства пчелы одного-единственного вида. Как говорит герцогиня, "Они из породы растений, у которых дамы и джентльмены растут на разных стеблях. ... Есть насекомые, которые берутся устраивать им браки, как для монархов, по доверенности, так что жених и невеста до свадьбы даже не видятся. ... Но на это так мало надежды! Только подумайте: нужно, чтобы насекомое сначала увидело цветок того же вида, но другого пола, и чтобы ему пришла мысль занести в наш дом визитную карточку. Пока оно не прилетало" (G 535-36 / Г 441). И в последней фразе "La Race maudite" рассказчик "досадует на то, что внимание мое приковал к себе союз Жюпьен - Шарлю и что из-за этого я, может быть, пропустил оплодотворение цветка шмелем" (С 656 / СГ 42).
То, что постоянно подчеркивается в этой аналогии между ситуациями Шарлю и орхидеи - это пафос маловероятности осуществления, пафос абсурдности и невозможной специализированности, сложности в реализации потребности каждого. И этот момент явным образом нивелируется универсализующим ходом в конце главы ("После того, как мне ... открылось столь редкостное соединение, я преувеличивал его необычность" (С 654 / СГ 41). Более того, потихоньку он нивелируется на всем протяжении остальных томов A la recherche, где любовные отношения, которые установились в этом случае между Шарлю и Жюпьеном, демонстрируются как (хотя нигде об этом не говорится прямо) единственное исключение из каждого Прустового закона любви, ревности, триангуляции и радикальной эпистемологической нестабильности; без всяких комментариев или рационализаций, любовь Жюпьена к Шарлю показывается непоколебимой на протяжении десятилетий и основывающейся на совершенно надежном знании своего ближнего, который не является ни твоей противоположностью, ни твоим симулякром.