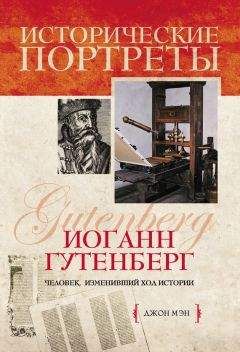С. Муратов - ТВ-эволюция нетерпимости
Криминализация эфира. Героизация насилия. Сексуальные откровения в то время, когда у экранов дети. Колдуны, экстрасенсы и целители довершают картину.
Когда-то победители интеллектуальных ристалищ получали в награду книги. Сегодня — пакеты с деньгами. Непредсказуемые дуэли «телезрителей против знатоков» уступили место триумфу ассигнаций над эрудицией. Ведущие викторин не требуют от участников ни артистизма, ни гражданских качеств, ни дара импровизатора. Они импровизируют сами и даже вполне артистично. Хотя все их превосходство — в готовых ответах, прочитанных в сценарии перед выступлением.
Когда-то в образовательных и учебных программах /были такие/ демонстрировались уроки этики. Но ведь любая телевизионная передача — урок этики. Или антиэтики. Даже если ее создатели об этом не думают. А, может быть, именно потому, что не думают.
Неспособность задуматься о последствиях своей передачи — характерная особенность нынешних журналистов.
Ощущает ли телевидение свою ответственность перед зрителем? Журналист — перед репутацией своего канала? /Репутация величина сегодня столь малая, что ею вполне можно пренебречь. И пренебрегают/.
Попытки создать моральные правила поведения в перестроечные годы предпринимались в “Останкино” неоднократно. Всякий раз эти усилия оборачивались чем-то вроде Кодекса строителя коммунизма с призывами к честности и правдивости. Но честности перед кем? Перед публикой, чье любопытство неисчерпаемо? Героем программы, стремящимся избежать чересчур назойливого внимания той же публики? А ведь существует еще и ответственность перед обществом с его понятием о достоинстве.
Документалистика постоянно имеет дело с противоречием между правом публики знать все и правом личности, оказавшейся на экране, на неприкосновенность ее частной жизни. Между правом кандидата в период избирательной кампании изложить в эфире то, что он хочет, и правом зрителя получить возможность судить о подлинных намерениях кандидата. Но до каких пределов простирается наше право знать? В каких случаях в жертву такому праву можно принести суверенность отдельной личности? Где границы той территории, которая именуется частной жизнью?
Излагая нравственные принципы в самой общей форме, мы рискуем вступить в безнадежное соревнование с проповедями Моисея или наставлениями Нагорной проповеди. Противники каких бы то ни было норм и правил полагают, что воспитанный человек в дополнительных наставлениях не нуждается. С этим доводом безусловно стоило бы согласиться, если бы все журналисты и в самом деле обладали тем чувством собственного достоинства, которое заставляет считаться с таким же чувством у собеседников или зрителей. Если бы…
Шприц для инъекций
Нынешним зрителям может показаться странным, но сегодняшние призывы к соблюдении ведущими нравственных норм и упреки в отсутствии вкуса почти не возникали в советское время. Дело в том, что номенклатурное телевидение сводило почти на нет индивидуальные самопроявления журналиста. Явление диктора на экране считалось когда-то почти ритуальным актом, а такие слова, как “я” и “мне кажется” в 50-х годах вообще исключались из лексикона.
Нормативная этика, впрочем, касалась не только поведения человека в кадре.
Что такое культура информационной программы? В чем заключаются критерии объективности в документальном вещании? Какова зависимость телевидения от общества? Такие вопросы звучали не иначе, как риторические. Гостелерадио формировалось как чистый продукт Административной системы.
Собственно, само название «Центральное телевидение» на первых порах носило условный характер. «Центральная студия телевидения», возникшая в 1951 году /тогда — «ЦСТ»/, не могла быть всесоюзным монополистом уже по тому, что радиус прямого сигнала в то время не выходил за пределы московской области. С появлением радиорелейных линий, а затем и постоянной космической телесвязи /система «Орбита» — 1967/, московские передачи оказались доступны для всей страны. Но ситуации это не изменило. Две основные программы, анонсируемые как «всесоюзные» всегда оставались — по своим территориальным и национальным признакам — преимущественно столичными. Иностранцы недоумевали, почему у вас, в многоэтническом государстве, все дикторы и ведущие — исключительно москвичи и при этом — русские?
Десятилетиями административный снобизм проявлял себя в откровенном пренебрежении к местному вещанию. Вместо того, чтобы показывать самое живое и самобытное, республиканские и областные студии — по указанию свыше — заполняли предоставляемое им скудное время на «всесоюзном» экране дежурными передачами в форме парадных отчетов-здравиц. Центр был озабочен не столько координацией региональных каналов, сколько их субординацией по отношению к самому себе.
В 1962 году произошло событие, скорбные последствия которого обнаружились много позже. Абонентную плату за телевидение отменили, введя взамен надбавку к розничной цене самого приемника. Уже пять лет спустя компенсация перестала себя оправдывать. К 1980 году расходы превысили доходы четырехкратно. Телевидение стремительно дорожало по мере увеличения объемов вещания, развития наземных и спутниковых линий связи и возрастающей стоимости оборудования.
Но гораздо существенней оказалось другое. Отменив абонентную плату и перейдя на финансирование из госбюджета, советское телевидение, по существу, изменило природу своей социальной роли. Очевидным это стало лишь в последнем десятилетии века. На первых порах изменений не почувствовали и сами работники телевидения /многие до сих пор продолжают считать, что советское вещание было государственным, а не авторитарно-номеклатурным/.
«Если государство тратит миллиарды на свои государственные структуры, то оно, естественно, вправе требовать, чтобы люди, там работающие, проводили политику государства». С каждым годом этот тезис звучал все более внушительно вплоть до распада СССР. Но, тогда, в 1962 году телевещанием было охвачено лишь 15 % населения. Десятки местных студий действовали разрозненно /первая релейная линия между Москвой и Киевом вступила в строй лишь в 1960-м/. Никто еще не воспринимал телевидение как инструмент государственной информации. /Программа “Время” появится лишь в 1968 году/.
Говорить всерьез о зависимости телевидения от общества не приходилось в силу не только отсутствия гражданского общества при авторитарном режиме, но и каких бы то ни было механизмов обратной связи с аудиторией. Разумеется, не могло возникнуть и вопроса об ответственности вещания перед обществом. О самостоятельном политическом статусе массовых электронных средств:
В чем состоит государственная политика применительно к телевидению — в защите власти или в защите от власти?
Журналистское сознание не знало подобной альтернативы. Весь горький опыт отечественной реальности приучил к тому, что средства массовой информации — орудие репрессивное, а его задача — обеспечить монополизм единственно верной идеологии. Не удивительно, что дикой казалась мысль о государственном телевидении как о вещательном органе, исключающим какую бы то ни было монополию.
Такой подход избавлял от альтернативы, показывать ли ключевые выпуски новостей по разным каналам одновременно, как в США, или с разрывом, как, скажем, в Англии. Одна и та же информационная программа “Время” транслировалась одномоментно /в 21.00/ по всем останкинским каналам на весь Союз. Она являла собой не столько картину событий, происходящих в стране и мире, сколько представление о том, какими должны выглядеть на экране страна и мир.
Само выражение СМИ — «средства массовой информации» — несло в себе печать неблагонадежности. Гораздо чаще употреблялось СМИП — «средства массовой информации и пропаганды». При этом пропаганда всегда считалась первичной, а информация — только средством. Сторонники СМИПа не допускали, что информация сама по себе — без ее пропагандистского назначения — представляет какую-то ценность. Их не смущало публичное выражение — «пропаганда врет всегда, даже в тех случаях, когда говорит правду».
Тоталитарное начало обнаруживало себя не только а аппаратной структуре Гостелерадио и его госбюджетной экономике, но и в самом сознании тележурналистов.
Самоценность факта считалась понятием буржуазным, а значит лживым. Кадры телехроники отражали не реальную жизнь общества, но, скорее, ритуалы, посредством которых режим утверждал себя — парады и празднества, торжественные заседания и вручение наград, нескончаемые чествования и перманентные юбилеи.
Номенклатурное телевидение породило особый вид теленовостей — информацию, независимую от фактов, которым запрещалось противоречить передовому мировоззрению. А если они все же противоречили, то тем хуже для фактов — они оставались за кадром. Не имело значение то, что действительность на экране мало чем походила на действительность вне экрана, — именно ее и надлежало считать реальностью. Известное сравнение Останкинской телебашни со шприцем для идеологических инъекций /Андрей Вознесенский/ в этом смысле вполне отвечало сути. Хотя эта формула и принадлежала поэту, она воспринималась не метафорой, а диагнозом.