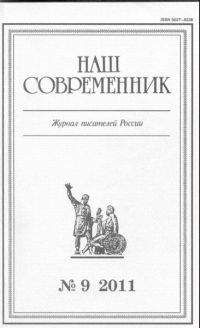Станислав Куняев - "В борьбе неравной двух сердец"
Второе письмо я получил в феврале 1999 года, когда Дербина давно уже была на свободе и работала библиотекарем где-то в пригороде Ленинграда. Приведу его целиком, поскольку оно содержит важные подробности из жизни Николая Рубцова.
7/II 99 г. «Здравствуйте, Станислав!
Давно собираюсь написать Вам. И повод для этого был не один раз. Обидно было, что именно Вы, Ваш журнал напечатал шизофренический бред Коняева (№ 12, 1997 г.), но этот бред такой, что каждый здравомыслящий читатель, я думаю, всерьёз его не принял. На этом я и успокоилась.
В №6 за 1999 г. в своих воспоминаниях „Поэзия. Судьба. Россия“ в разделе, посвящённом Николаю Рубцову, Вы приводите отрывки из писем жительницы Барнаула Евгении Нифонтовны Кошелевой, адресованных Вам.
С Женей Кошелевой я переписывалась больше десяти лет, лет тринадцать. Почти все письма в целости и сохранности. Представляете эту кипу? И почти все они — это размышления о Николае Рубцове, о его поэзии, его судьбе. Сейчас я тоже ничего не знаю о ней. Но ещё в начале восьмидесятых годов она сильно болела. Не знаю, жива ли она. Я очень ей благодарна. В неволе я жила её письмами, она была почти единственным читателем моих стихов. Но, конечно же, к некоторым её сообщениям надо относиться критически. Фантазёрка она ещё та. Вот в письме от 22/XII-73 г. Женя пишет Вам: „Судьба мне дала единственную встречу с Рубцовым. Это было в 57 году на Алтае. Дорога шла через сосновый бор. Он сидел на пригорке...“ Но этого не могло быть. В 57 году Рубцов бороздил морские просторы на своём эсминце. А на Алтае он был летом 1966 года.
В письме ко мне от 29/VII-73 г. она меня спрашивает: „Скажите, мог ли быть Николай Рубцов на Алтае летом (VI-VII) 57 г.? В каком году он вернулся из армии?“
Не думаю, что я могла ей ответить утвердительно. Коля ушёл в армию, во флот в 1955 году. А на флоте служили 4 года. Вот и считайте. Отпуск дали ему только через 3 года службы. Тая его не дождалась, вышла замуж. Так что тот юноша на пригорке, конечно, был не Рубцов. Женя тут выдаёт желаемое за действительное. А теперь, что окончательно меня подвигло на письмо к Вам, это гнусная лживая статья в „Труде“ за 27/I 2000 г. Виктора Астафьева. Николай последние полгода вообще не общался с этой семейкой, они были в ссоре. А он пишет, что будто был у нас незадолго до 19/I. Представляет меня как грязную пьющую бабу. Это меня-то! Не был он и в больнице у Коли. Если бы он был, то Коля мне обязательно сказал бы об этом. Эту встречу Астафьев расписал бы, а тут: „Я его вызвал, он ко мне вышел“. И вдруг с места в карьер Коля стал ему начитывать старые стихи. В общем, сплошная ложь.
У меня к Вам большая просьба. Я послала открытое письмо Астафьеву в газету „Труд“. Посылаю и Вам. Ну, во-первых, пришпильте моё письмо, как и письма еврея Э., к 15-томному изданию „великого“ писателя. Шучу, конечно.
А во-вторых, если „Труд“ не напечатает, что вполне может быть, то напечатайте Вы, пожалуйста. Вы общаетесь с газетчиками и отдайте в любую газету, в какую считаете возможным. Я полностью полагаюсь на Вас. Николай любил Вас, часто вспоминал. Только и слышишь, бывало: „Стасик, Стасик...“
А я лелею надежду, что, может быть, тот патологоанатом, имя которого держат от меня за семью печатями, хотя бы перед смертью признается, что умер Николай от инфаркта сердца, а не от удушения. Экспертиза была фальшивая. Я уже не сомневаюсь.
Вот у меня и всё.
Желаю Вам творческих успехов, процветания Вашему журналу. Его очень любят люди, в библиотеке нашей его буквально — на разрыв.
С большим уважением к Вам Людмила Дербина»
Письмо слишком серьёзное, чтобы его забыть, хотя с женщинами всё бывает.
Когда я прочитал письмо Д., обращённое к Астафьеву, то, честно говоря, мне впервые стало жалко её. И без того она живёт с непомерной тяжестью на душе от содеянного, а тут Виктор Петрович унизил её на всю страну, унизил сознательно, мелко и желчно. И, как я сам догадался, много присочинив. Я знал, что Астафьев в своих воспоминаниях ради красного словца не пожалеет ни мать ни отца. А тут какая-то случайная рубцовская подруга...
Вот почему после некоторых колебаний я исполнил просьбу Дербиной и передал её послание Астафьеву в руки В. Бондаренко, который был автором самой, может быть, резкой и беспощадной статьи «Порча» о Викторе Петровиче, нашем классике, человеке из простонародья, лауреате всех советских премий и Герое соцтруда, авторе знаменитого письма Натану Эйдельману, которым в 80-е годы зачитывалась вся русская патриотическая интеллигенция, писателе, с которым как с писаной торбой носилось партийное начальство сначала Вологды, а потом Красноярска, не зная, как ему угодить с квартирами и дачами, человеке, который обернулся таким антисоветчиком, что всем его друзьям-фронтовикам стало плохо от его ренегатства, потому что в последние годы жизни он обнялся с Ельциным, получил деньги на издание 15-томного полного собрания сочинений, куда, конечно, не вошло письмо к Эйдельману, и в конце концов поставил свою подпись под позорным письмом, одобрявшим расстрел ельцинскими холуями российского парламента...
Владимиру Бондаренке, как говорится, и карты были в руки. Он без колебаний напечатал 28 марта 2000 г. письмо Дербиной, в котором она вспоминает, что Коля Рубцов в сердцах однажды назвал Астафьева «обкомовским прихвостнем».
Газету «День литературы» после её выхода с письмом Дербиной я отослал ей в Питер, но от себя не написал ни слова, потому что всё, что она эти десятилетия говорила о роковой январской ночи, отталкивало меня либо фальшью, либо беспредельной гордыней. Она никак не могла найти единственно верных слов ни для себя, ни для мира, ни для Господа Бога. Поскольку «День литературы» опубликовал письмо Дербиной в сокращении, я публикую его целиком.
«МОСКВА Газета „ТРУД“
Открытое письмо писателю Виктору Астафьеву.
Виктор Петрович!
Давно приучаю себя не реагировать на камнепад клеветы, который сыплется на меня вот уже почти 30 лет. Да вот, не получается. Всё во мне восстаёт, хотя давно надо быть бы по-христиански смиренной и молиться за обидящих и ненавидящих меня.
Вот, наконец-то, и Вы публично высказались в газете „Труд“ (27/I-2000 г.) и заклеймили подлую убийцу Николая Рубцова. Я читала и не удивлялась, потому что давно поняла Вашу суть: Вы навеки уязвлённый человек, в Вас живёт неиссякаемая злоба на весь человеческий род, которому Вы всё мстите и мстите за пинки, которые некогда получили. Теперь-то, уж давно обласканному властями, осыпанному всеми возможными наградами и премиями, надо бы подобреть, если уж не милосердным, то хотя бы снисходительным быть к людям и их человеческим слабостям. Но Вы обязательно должны кого-то унижать, кого-то жестоко высмеивать, хотя бы походя, но куснуть, ужалить. Вы, как писатель, далеко идёте в художественном вымысле в своих романах. На то они и романы. Но художественный вымысел о конкретных людях может называться только одним именем. Ложь должна называться ложью.
Давайте-ка разберём Вашу статью „Гибель Николая Рубцова“ и кое-что уточним в ней, поскольку я ещё живая и могу напомнить Вам то, что Вы с течением времени, может, и подзабыли уже. Ясно одно, что мне придётся защищать от Ваших, мягко сказано, „неточностей“ не только своё достоинство, но и память Николая Рубцова.
Вы пишете, что были в квартире Рубцова накануне трагедии: „...Дома были оба и трезвые... — Когда сочетаетесь-то? Они назвали число. Выходило, через две недели после крещенских морозов“.
Но Вы в январе 1971 года у нас не были. При мне в квартире Рубцова Вы были единственный раз в феврале 1970 года. Вы пришли к нам вечером в длиннополом пальто, в таких интересных сапогах, у которых голенища были, как валенки. Вы даже не разделись. Расстегнув пуговицы пальто, Вы присели на стул. Речь шла в основном о Вас, о том, какой Вы умудрённый жизнью человек, прошли войну, всё видели-перевидели, всё испытали и теперь уже на три аршина в землю видите всё. Минут через 15-20 Вы ушли, так и не встав ни разу со стула.
Естественно, что никакого диалога о сроках нашего бракосочетания быть не могло, поскольку в то время даже и речи не заводилось на эту тему между нами, т. е. между Рубцовым и мной. Заявление в загс мы подали 8 января 1971 года, а день бракосочетания нам назначили на 19 февраля, т. е. от крещенских морозов до этого дня выходило не две недели, а ровно месяц.
„Дома были оба и трезвые“. Сразу же делается акцент на то, что в квартире проживают двое пьяниц. У меня к Вам вопрос: „А Вы меня когда-нибудь видели пьяной?“ Слава Богу, проблемы с алкоголем у меня никогда не было за всю мою жизнь.
„...Из неплотно прикрытого шкафа вывалилось бельё, грязный женский сарафан и другие дамские принадлежности ломались от грязи“. Более страшного оскорбления для женщины быть не может. Но у Рубцова в квартире шкафа никогда не было. Да и зимой 1970 года никаких моих дамских принадлежностей быть не могло. Мы жили раздельно, и я была в гостях у Рубцова, а все мои вещи, естественно, остались дома.