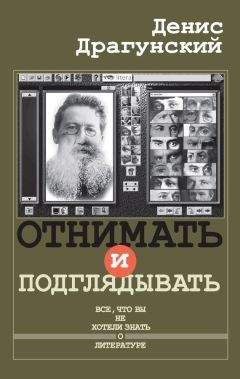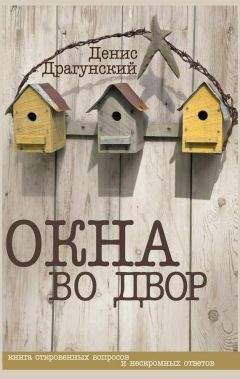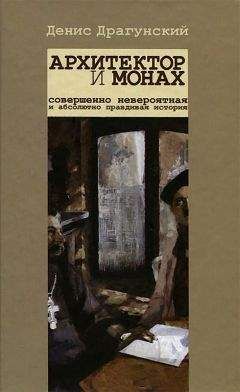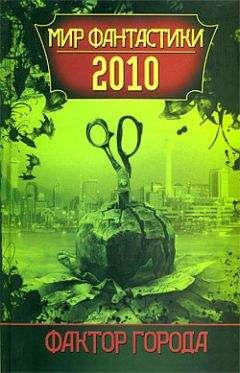Денис Драгунский - Бог, страх и свобода
Самые последние институциональные и ценностные перемены опять сопровождаются призывами «вернуться к традициям». Однако, поскольку каждое поколение радикально ломало традиции поколения предыдущего, не всегда ясно, о чем речь — если не об исторических декорациях.
НАВЕРНОЕ, ТАК БЫВАЕТ ВЕЗДЕ.
Российский отказ от традиции явился, скорее всего, трагическим результатом попыток быстрого ответа на модернизационные вызовы. Главным содержанием этих вызовов была необходимость включиться в сообщество развитых (прежде всего западных) стран и, тем самым, необходимость говорить с ним на одном языке.
Разделять их политические и экономические ценности, а также усваивать культурные и технические достижения. Зачем? Чтобы остаться Россией.
КОНЕЧНО ЖЕ ТАК БЫВАЕТ ВЕЗДЕ.
Но Россия все время отставала от мирового процесса модернизации. Большое, тугоподвижное, плохо проветриваемое пространство с трудом меняло внутренние очертания.
Конечно, скверно, что все время приходится ориентироваться на Европу или Америку. Хочется обидеться, бросить все к черту или обратиться в руководящие инстанции — сделайте же что-нибудь, надоело все время догонять! Хочется быть самим собой!
А что тут поделаешь? Тут даже руководящие инстанции бессильны.
Получалось так: чем настойчивее Россия стремилась сохранить свою самобытность, тем чаще и решительнее менялись векторы ее движения, тем беспорядочней шел поиск новых ценностей.
РУССКАЯ САМОБЫТНОСТЬ ЕСТЬ СЛЕДСТВИЕ РУССКОЙ ЗАКРЫТОСТИ И РУССКОГО ЖЕ НЕВЕЖЕСТВА. ШВЕЙЦАРСКАЯ САМОБЫТНОСТЬ — ТОЖЕ.
И ЛЮБАЯ ДРУГАЯ.
Но к своей самобытности Россия всегда относилась весьма двойственно.
С одной стороны, самобытность рассматривалась как безусловная ценность. С другой стороны, российский жизненный стиль явно не устраивал самих русских — и это относилось не только к советской действительности, но и ко всей национальной жизни в более глубокой исторической ретроспективе.
Фольклор, литература и журналистика веками выставляли на всеобщее позорище и посмешище нашу лень, пьянство, разгильдяйство, безрукость, вороватость, лживость и злобность. Возглас «Так жить нельзя!» приобретал значение порождающей модели российского жизненного стиля — этого, наверное, довольно редкого стиля, где острое ощущение неправильности собственного социального поведения и составляет основное содержание этого поведения. Понимание (или декларирование) неправильности отдельного поступка или всей жизни служит заменой правильному поступку или правильной жизни.
При этом сама «правильность» не есть нечто позитивное в европейском, демократически-рыночном, правовом — каком хотите — смысле слова.
Никому в России так не доставалось от фольклора, литературы и особенно от журналистики, как добропорядочным обывателям, педантичным чиновникам, оборотистым купцам и служакам-офицерам — этим столпам демократии и свободного рынка. Призывы Розанова уважать чиновника, офицера и просто семьянина остались без ответа. Философы тоже терпеть не могли мирных обывателей. Алексей Федорович Лосев называл их мелкими душонками, тошнотворными эгоистами, «относительно которых поневоле признаешь русскую революцию не только справедливой, но еще и малодостаточной» («Диалектика мифа», 1930). Тем самым с порога отвергалось знаменитое обращение Адама Смита к эгоизму булочника и мясника как к основе рыночной экономики. «Паршивый мелкий скряга хочет покорить мир своему ничтожному собственническому капризу» — разумеется, Лосев писал это отнюдь не в связи с рыночными теориями, но несовместимость жизненных стилей вырисовывается четко.
Тут уже не только о рынке речи нет, но и о простом личном интересе. Нет речи о приемлемой системе обмена интересов в обществе, то есть о моральной санкции на само существование общества.
ПРАВИЛЬНО ЖИТЬ НЕПРАВИЛЬНО.
НЕПРАВИЛЬНО ЖИТЬ ПРАВИЛЬНО.
Нужна не правильность, а праведность, то есть недостижимый нравственный идеал, который только и можно противопоставить тотальному «так жить нельзя». Но праведно жить в реальности тоже нельзя, святость не может быть уделом всех или многих. Праведников должно быть очень мало. Один или два, как полагал величайший русский диалектик Смердяков, да и то это монахи-отшельники, которые «где-нибудь там в пустыне египетской в секрете спасаются, так что их и не найдешь вовсе» (Достоевский, «Братья Карамазовы», 3, VII).
На самом деле — с более новой точки зрения — они не просто спасаются — то есть спасают себя, и только. Они спасают и нас — «братское замещение греха одних терпением других» (Сергей Аскольдов, «Религиозный смысл русской революции», 1918) — старая русская — вроде бы даже прямо византийская — конструкция, позволяющая грешникам паразитировать на подвиге праведников.
Впрочем, то, что св. Феодор Студит (IX в.) называл «взаимным переходом добра с одного на всех и обратно», вовсе не подразумевает автоматического самоизбытия порока исключительно потому, что где-то существует чья-то добродетель. Ведь у Феодора Студита, собственно говоря, речь идет о братьях, «союзом любви связанных». То есть, скорее всего, о монашеском общежитии, поскольку сам он был настоятелем монастыря. С некоторой натяжкой это не что иное, как взаимная поддержка в коллективе, вот и все. Но даже если этот текст понимать как разговор о мистическом единстве всех христиан, то все равно — не просто «с одного на всех», но «и обратно». Проще говоря, один за всех и все за одного.
Однако наши любители душевного комфорта выкинули это «и обратно».
Кажется, это чисто русское изобретение, причем сравнительно недавнего времени (конец XIX в.), — про то, что Русь спасется молитвой старца. Во всяком случае, в рассуждениях на эту тему — у того же Аскольдова (в едином теле Святой Руси «праведность десятков миллионов очищала и просветляла в единстве народного сознания грех немногих тысяч поработителей») — нет ссылок на святоотеческую литературу.
ТОЧНЕЕ, Я ЭТИХ ССЫЛОК НИГДЕ НЕ ВИДЕЛ.
А ЛИСТАТЬ НАСКВОЗЬ ВСЕ 166 ТОМОВ «ГРЕЧЕСКОЙ ПАТРОЛОГИИ» МНЕ БЫЛО НЕДОСУГ.
То есть это не ортодоксально, не православно. Святые Отцы насчет «греха поработителей» (эксплуататоров народа) были настроены весьма серьезно. Особенно св. Иоанн Златоуст. Не говоря уже о Евангелиях, где говорится о фарисеях, которые разоряют дома вдовиц и лицемерно долго молятся — «и примут тем большее осуждение» (Мт. 23.14; Мк. 12. 38–40; Лк. 20. 46–47).
Значит, Спаситель осудил, а русский народ простил. Это уже даже не «народ-богоносец», это забирай выше — «народ-вместо-бога».
Хотя самому Аскольдову вроде бы не свойственно народопоклонство. Наоборот, в 1918 году, когда он писал свою статью, настроение было иное. Было отвращение и страх перед озверевшими массами. Но общий контекст затягивает. Не сегодня, так сто лет назад, но все равно Святая Русь, где рабы прощают своих господ-мучителей.
Отвлеклись. Вернемся. Вот и выходит: поскольку мой грех — в изобретенном мною способе рассуждения — всегда искупается чужой праведностью, не грех и подтасовать, или, если угодно, подпереосмыслить, кое-что из богословского наследия. Подфантазировать, подлепить свое — и объявить это исконным свойством русской православной души.
Вот вам и хваленая русская религиозная философия. То есть очередная русская отсебятина.
А МОЖЕТ БЫТЬ, И Я СЕЙЧАС ДЕЛАЮ ТОЧНО ТАК ЖЕ? И ДАЖЕ СКОРЕЕ ВСЕГО.
А ОТ КОГО ГОВОРИТЬ, ЕСЛИ НЕ ОТ СЕБЯ?
Интересно, что Смердяков (иногда кажется, что это более чем реальная фигура) в своих поразительных рассуждениях о прощении грешника не говорит о молитве старца, более уповая на Божью милость как таковую. Он апеллирует к судьбе Благоразумного Разбойника, который на кресте покаялся и был прощен. Это вполне ортодоксально, это православно. Почему-то думается — если бы идея о спасительной молитве старца была тогда в ходу, Смердяков непременно бы ее подхватил.
Выходит, что идея появилась (или процвела) где-то между восьмидесятыми XIX века и десятыми ХХ века.
НО ЕСЛИ НЕ ТАК — НЕ КЛЯНИТЕ, А ИСПРАВЬТЕ.
Так что, скорее всего, «молитва старца» — это наш ответ индустриальной модернизации 1880-х годов. Трудно, не хочется менять весь жизненный стиль — от бытового навыка до моральных правил, трудно примириться с личной ответственностью. Под грохот чугунки ломается «м1р», община, «общество», княгиня Марья Алексевна тоже исчезает. Некому не то что за тебя ответить, некому тебя поправить и даже — даже наказать некому, этак по-отечески.
Теперь ты сам и только сам. Страшно.
Только начали индустриализоваться — и тут же наступил отказ от ценностей индустриализма. От ценностей модернизации, европейства, личного достоинства и т. д. и т. п., к которым Россия продиралась весь XIX век.