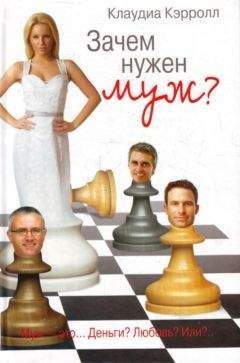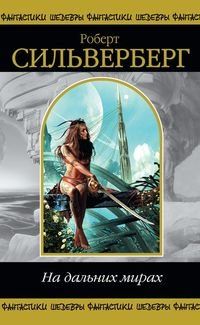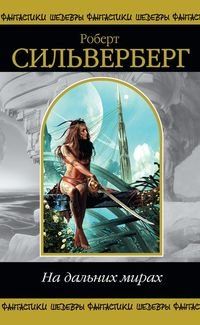Лев Аннинский - Красный век. Эпоха и ее поэты. В 2 книгах
Воинственный Гумилев бодрится: "Ну, что ж, если над нами висит катастрофа, надо принять ее смело и просто. У меня лично гнетущего чувства нет, я рад принять все, что мне будет послано роком" (о, знал бы!). Гумилев говорит это о Блоке, отталкиваясь от Блока, реагируя на Блока: кроме знаменательной ревности вождя акмеистов к вождю символистов, тут поразительно точно определен нерв, который задет Блоком.
Проницательный Ходасевич через десять лет после смерти Блока скажет об этом так: "Поэзия Блока в основах своих была большинству непонятна или чужда. Но в ней очень рано и очень верно расслышали, угадали, почуяли "роковую о гибели весть". Блока полюбили, не понимая по существу, в чем его трагедия, но чувствуя несомненную ее подлинность".
Тут — всё. Меч Немезиды. Дыхание катастрофы. Гибель иллюзий. И притом — полная невозможность понять: откуда? за что? как?
Мгла. Тишина. "Обманы и туманы". Сны. Лесные тропинки, глухие овраги. Бесцельные пути. Сумерки. Сумрак. С первых строк поэзия Блока не просто повествует о предчувствиях, опираясь на такие сигнальные слова, как "тревога", "пустыня", "ночь", "могила" и "тайна" (этот-то пласт — не блоковский, он взят от Жуковского и других классических предшественников), нет, здесь наново создается абсолютно достоверный психологический мир, который делает предчувствия реальными, хотя сплетается, как и должно быть у гения, как бы вслепую.
Беспредметность, "неощутимость" соединены с потрясающей, невменяемой точностью взгляда, слуха и осязания. Цвета и звуки, холод и тепло (огонь) соединяются в целое, вроде бы ни из чего не следующее: ощущения предельно достоверны, а целое невыносимо ирреально.
Все призрачно. Но непреложно. Блоковский дух неуследим, как неуследимы ветер или метель, или вьюга. Но "датчики" бури точны, как на метеостанции. Кажется, что этот мир качается, плывет и утекает, что в нем реют сплошные символы, что цветовая гамма скользит и пестрит, но, вчитываясь, обнаруживаешь, что зрение остро и точно.
Два первоначальных цвета — две азбучные истины: красный и синий. И — до конца, до финальных аллегорий: красное — коммунизм, синее — большевизм; или: "красный комод", который "всех ужасней в комнате"; "синий плащ", в который — "завернулась".
Через всю поэзию — эти два ощущения: огневое и леденящее — встык. "То красные, то синие огни". "Синее море… красные зори". "Синие воды… красные розы". "Синяя дымка под красной зарей". "Пунцовые губки, синеватые дуги бровей". "День белый с ночью голубою зарею алой сочетал…"
Так сокровенный смысл в том, что "сочетается" — несходимое. Красное пресекается синим, синее — красным. Синева — жгуча, красность — пепельна. Лейтмотивы: синяя муть, алая мгла. Красная пыль. Серый пурпур. И в трагическом завещании "Пушкинскому Дому": "сине-розовый туман". И в известной автопародии: "синих елок крестики сделались кровавыми, крестики зеленые розовыми стали…"
Цвета дробятся. Мерцание, рассыпание, бликование. "Цветистый прах". Словно бы серебрится все. Серебра еще нет, однако ОЖИДАНИЕ этого разрешающего колористического удара разлито в дробящемся воздухе, в тревожном сцеплении противоположного: красного и синего, ясного и мглистого, белого и черного.
Серебро, пару раз мелькнувшее в ранних стихах традиционной краской романтического пейзажа, ко времени "Распутий" (1903 год) прочно одевает поэзию Блока в ледяной плен. Это серебро — темное, холодное. Серебро вьюги, серебро метели. Серебро трубы, зовущей в гибель, смертного наряда, пустыни, покоя, оков. Но и серебро видений, грез, "чертогов". И постепенно блоковское серебро — мечтаемое серебро "Снежной маски", с 1907 года окрасившее его лирику колдовским мерцанием, вытесняет в сознании читателей все другие цвета (кроме разве что черного). Оно, это мерцающее серебро, становится чем — то вроде пароля, пропуска в "символизм" с его "духами и туманами". Блоковское обаяние является, наверное, главной причиной того, что само название "Серебряный век" постепенно переносится на его эпоху с эпохи предшествующей, для которой то имя было логичнее: после пушкинского "Золотого века" настало время Фета; на грани его — Тютчев, на другой грани — Анненский…После Блока все сдвигается — к его среброснежности, к его среброзвездности, сребросказочности, и в этих отсветах блекнет определение, которое Блок дал своему веку: "железный". Не серебро завещал он, а чугун, отложившийся в жилах. Не "серебристый" у него колорит — "серебряно-черный".
Кто там встанет с мертвым глазом
И серебряным мечом?
Невидимкам черномазым
Кто там будет трубачом?
"Черномазым"… Крайне нехарактерное для Блока определение. Массу человеческую Блок чаще называет: "толпа". Или — в старинном стиле, во множественном числе: "толпы". И еще с ударением на конце: "увел толпЫ в пылающий рассвет". Иногда он говорит: "народы". "Кругом о злате иль о хлебе народы шумные кричат". А то и "стада". Их что-то "гонит", а он — в стороне. Они его "зовут", а он — хладен и безучастен, нем и недвижим.
В этой ситуации вроде бы просится слово "чернь".
Его нет.
Вернее, оно есть, но в каком-то нездешнем регистре:
Венгерский танец в небесной черни
Звенит и плачет, дразня меня.
Или:
И голос черни многострунной
Еще не властен на Неве.
Или:
И над заливами голос черни
Пропал, развеялся в невском сне.
Эта мелодия не сливается ни с воплями "толп", ни с блеяньем "стад". Эта музыка звучит откуда-то из-под купола, из иной реальности. Причем тут "чернь"? В реальности "чернь" если и возникает, то — как в поэме "Возмездие" — чернь светская, "сытая", толпящаяся, как в пушкинские времена, у трона, — во времена блоковские она еще и "говорит речи". От ЭТОЙ "черни" Блок отделяет себя презрением, как от "толп" и "стад". Простой народ вызывает у него совсем другие чувства. Это не "чернь". "Не называются чернью люди, похожие на землю, которую они пашут, на клочок тумана, из которого они вышли, на зверя, на которого они охотятся…" Это разъяснено в 1921 году, за полгода до смерти и через две эпохи после небесной, многострунной черни "невских снов". И еще ясней: "Вряд ли когда-нибудь чернью называлось простонародье. Разве только те, кто сам был достоин этой клички, применяли ее к простому народу". Чернгта нароада — не "чернь". Здесь черные краски появляются разве что в контраст желтым: чернота рабочих предместий есть знак "честности" в противовес "обману" буржуазного города. Это знак природности: земли, тумана, зверя. Знак безобманности.
Чернота у Блока — и "чернь" его палитры — шире и мощнее той или иной социальной краски, она бьет через сословные границы, наискосок общепринятым створам. Она заполняет вселенную странной музыкой, гася цвета. Здесь взаимоуничтожаются синие и красные сполохи. Черна ночь, черно болото, черна дорога. Черны звезды, деревья, провода, решетки, двери. Черен бред, черна кровь, черна даль, черен свет. Небо Италии — черно! Затянута красавица в черный шелк, в черный бархат, сверкают черные бриллианты, рассыпаны черные волосы, чернеют очи, брови. Черен сон, черен смрад, черен дым. Черен монах, звонарь, латник. Черен город, черен поезд, черны моторы машин, стены фабрик, домов. "Недвижный кто-то, черный кто-то людей считает в тишине". Черна портьера. Черна роза в бокале. Черен платок на груди. Черен ведовской предел. Черен мир. Гаснет в нем серебро.
Из безначально-бесконечной тьмы выскакивает у Блока леденящий душу "черный человек" и бежит по городу, гася "фонарики".
Через весь Серебряный век бежит это видение и в конце концов сводит с ума того "рязанского парня", который в марте 1916 года явился к Блоку, подал записку: "Я поэт, приехал из деревни, прошу меня принять" и читал стихи — "свежие, чистые, голосистые и многословные". Неполных десяти лет хватило тому нежноволосому отроку, чтобы к нему в постель, взломав серебро, выпрыгнул из зеркала ЧЕРНЫЙ ЧЕЛОВЕК. И обозначил "конец процесса".
У Блока обозначено начало.
Вернее, безначальность. Непонятны, неощутимы границы тьмы, истоки, причины мрака. Мир неочерчен. Вернее, так: то, что очерчено, не удерживает Смысла, а то, что есть Смысл, — неудержимо, неуследимо и невыразимо. И зловеще неохватно. И мучительно непредсказуемо. Это всеобщность, несущая Пустоту и совпадающая с ней.
Когда после публикации "Двенадцати" антибольшевистская интеллигенция объявила Блоку бойкот, и главная жрица заявила, что не подаст ему руки (случайно встретив в трамвае, все-таки подала, проговорив в растерянности: "Только лично, не общественно!" — причем вежливый Блок был за это признателен), — Зинаида Гиппиус очень точно определила суть их расхождения. Там, где полагается быть политической доктрине, системе ясных убеждений и вообще идеологическому фундаменту, — там у Блока… зияние. Пустота. Безмолвие. Вакуум. ОКОЛО которого он всю жизнь и ходит. В основе — невыразимое. "Несказанное". Блок прямо подтверждает это в письме, зафиксировавшем разрыв: “Роковая пустота” есть и во мне, и в Вас".