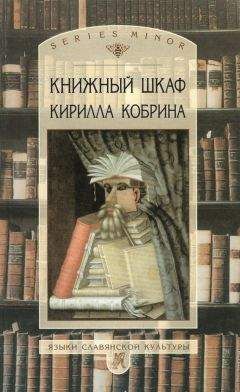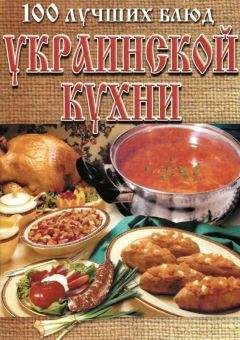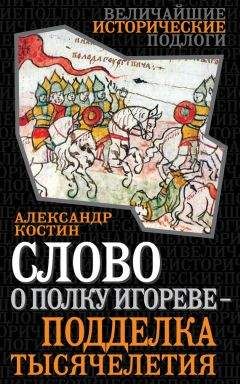Нина Воронель - Моя книжная полка. Мои собратья по перу.
Я и сейчас вижу эту сцену так ясно, будто она произошла вчера – Марья, сотрясаясь от рыданий, взлетает по невысокой лестнице, ведущей из галлереи наверх, на улицу, а я, как последняя дура, зачем-то бегу вслед за ней.
Мы выбежали на набережную, - Марья впереди, я в пяти метрах от нее, тщетно пытаясь ее догнать. К счастью, она мчалась хоть и быстро, но недалеко – с явным истерическим расчетом, чтобы выскочившие с вернисажа Синявский и Воронель успели заметить, в какое кафе она заскочила. Расчет был правильный – они заметили, и через минуту присоединились к нам, создав таким образом благодарную публику, необходимую для успеха готовящегося спектакля.
Спектакль был шикарный, вполне в Марьином духе, я таких видела немало, и до, и после, – она, захлебываясь рыданиями, обвиняла нас в предательстве и требовала, чтобы мы поклялись всем святым, что навсегда откажемся от общения с Марамзиным. На первый взгляд из этого требования ничего не вышло – Саша по странному капризу терпеть не может в чем бы то ни было клясться. Но на деле, Марья, как всегда, победила – я не могу вспомнить, чтобы мы когда-нибудь потом с Марамзиным встречались, даже случайно.
На вернисаж мы, конечно, не вернулись, но Шемякин поступил со мной благородно и, несмотря на скандал, учиненный частично по нашей вине, пьесу мою из сборника не выбросил, - я тешу себя надеждой, что он сохранил ее за ее художественные достоинства.
К следующему моему приезду в Париж, - а ездили мы в те годы часто, затребованные разными организациями, специализирующимися на борьбе за чьи-нибудь права, - сборник «Аполлон» только-только вышел. Он даже еще не поступил в продажу, но некоторые счастливцы хвастались полученными от Шемякина авторскими экземплярами.
Я погладила глянцево поблескивающий переплет, полюбовалась из чужих рук на свой изрядно приукрашенный облик – портрет был сделан профессиональным фотографом газеты «Нью-Йорк Таймс», - и позвонила Шемякину. Он жил тогда в отдаленном парижском пригороде, а книги хранил в Монжероне, где у русских художников было гнездо, выбитое у каких-то благотворителей коллекционером Александром Глезером. Шемякин не возражал выдать положенный мне авторский экземпляр, но не признавал ни почтовых пересылок, ни доверенных лиц – для получения альбома я должна была приехать в Монжерон собственной персоной.
Марья встала на дыбы, услышав о моих планах съездить в Монжерон. Там жили шумно и весело, - ели, если было что, пили всегда - пить всегда было что - писали картины и спорили об искусстве. Там бывали все, кроме тех, кого туда не пускали, - и Виктор Некрасов, и Володя Аллой, и Ирина Иловайская, и Гинзбурги, Алик с Ариной, и ненавистный Марье Марамзин.
Так что, объявила она, нечего мне туда соваться. Причина, разумеется, была не только в Марамзине, а в невыносимости всего расклада – я вырвусь из Марьиного плена и упорхну во вражеский лагерь, куда ей дорога заказана, поскольку она со многими тамошними успела уже перессориться. В Монжероне я буду безнадзорно веселиться, да еще, небось, останусь ночевать, ссылаясь на холод и темноту, и стану болтать с кем попало о чем попало, и уж конечно о них с Андреем, как же иначе?
Каждый день, просыпаясь, я намеревалась отправиться в Монжерон, но так ни разу и не поехала. Спрашивается, почему? Я и по сей день ищу объяснения, но разумного не нахожу – а только мистическое. Логически, правда, все, как будто, сходится - за окном дома в Фонтане-о-Роз свирепствовала не по-парижски студеная зима, пальто у меня было тель-авивское, рассчитанное в худшем случае на десять градусов выше нуля, денег не было даже на автобус до Монжерона. И Марья очень отговаривала, соблазняя легким заработком на радиостанции «Свобода» - поедешь, мол, когда наговоришь мне кассету и получишь свой гонорар, а то мне в другой день студию не дадут.
Гонорар, как обычно, заплатили в последнюю минуту перед самым отъездом, да и дней-то было всего-ничего, вот я и не поспела в Монжерон – ерунда, сказала Марья, никуда твой экземпляр не убежит, в следующий раз приедешь, получишь. А следующий раз случился через год, Шемякина в Париже я не застала, а потом мне сообщили, что никаких авторских экземпляров у него больше нет, весь тираж разошелся и допечатки не будет.
«А почему не приехала, когда я приглашал?» - спросил он совершенно справедливо в ответ на мои упреки. И мне нечего было ответить. Действительно, почему я не приехала? Мороза, что ли, испугалась?
Я и мороза этого толком не помню, словно память заволокло непроницаемой пеленой. Осталось только ощущение плотной, как тошнота, размагничивающей слабости, охватывавшей меня той зимой всякий раз, как возникал вопрос о моей поездке за «Аполлоном».
Что я тогда делала? Чем была занята? Помню, куда-то ездила с Марьей в такси, скорее всего, в студию радиостанции «Свобода» наговаривать обещанные кассеты, или, сидя на кухне дома в Фонтане-о-Роз, отстукивала на машинке программы будущих Марьиных радиопередач, или с книжкой под локтем валялась на диване в захламленной комнате, предназначенной быть гостиной.
Но не в силах была встать, надеть свое легкое пальтишко и потащиться за авторским экземпляром в холодную загородную даль, сперва на автобусе, потом на метро, потом на электричке с пересадкой, а потом опять на автобусе. Эта странная вялость, эта неспособность вырваться из опутавших мою волю тенет что-то мне напоминала, но смутное видение тут же ускользало, так и не проступая на поверхности сознания.
И только теперь, когда я увидела свою жизнь в прощальной ретроспективе, забытые события начали выплывать из небытия и группироваться по сходствам и аналогиям, выстраивая прошедшие годы в осмысленный узор. И мне припомнился драматический случай, происшедший со мной много лет назад в Москве, и внешне, казалось бы, не имеющий никакого отношения к моей странной пассивности в ту парижскую зиму.
Дело, правда, было тоже зимой, во вторник, когда в московских издательствах был выплатной день, и я получила большой гонорар за перевод либретто оперы Уолта Диснея «Три поросенка», записанной на ярко-красную пластмассовую пластинку, изданную миллионным тиражом журналом «Колобок». Я не знаю, как это делают сейчас, но в мои времена никаких чеков или банковских переводов в России не существовало - в выплатной день гонорар попросту выдавали наличными из окошечка кассы.
Получать такие большие деньги Саша повез меня на машине – не потому, что охранял, а потому что в тот день случайно оказался в Москве: обычно он с утра уезжал в подмосковный пригород, где находился его исследовательский институт. Я, потрясенная количеством нулей в предложенной мне сумме, расписалась в нужной графе гроссбуха, сунула толстую пачку купюр в сумочку, и мы весело покатили по заснеженной Москве, предвкушая, на что сможем сходу истратить часть этих денег.
Все было бы хорошо, если бы я, торопясь похвастать перед Сашей своим выдающимся заработком, не забыла перед выходом из редакции «Колобка» заскочить в туалет. Ошибка моя стала очевидной, пока мы толклись в разных очередях в Елисеевском магазине, покупая недоступные в обычной жизни лакомства. Так что, выйдя из магазина, мы, нагруженные пакетами и пакетиками, вынуждены были развернуться и поехать а Проезд Художественного Театра, где находилась одна из немногочисленных московских общественных уборных.
Я рысцой вбежала в некое подобие вестибюля этой уборной и стала протискиваться к кабинкам сквозь заполнявшую его женскую толпу. Точнее, мне пришлось не протискиваться, а прямо таки продираться – в вестибюле полным ходом шла торговля. Торговали всеми предметами роскоши, которые способна была представить себе несчастная советская женщина – лифчиками, кофточками, колготками, заграничными румянами, противозачаточными таблетками и тушью для ресниц.
Среди торговок и покупательниц сновали три цыганки и просили позолотить ручку, но никто им не подавал. Одна из них, с младенцем на руках, подскочила ко мне и вцепилась в мою сумочку жадными пальцами: «Подай на ребеночка, а не то кривая станешь!». Для иллюстрации своего щедрого обещания она скорчила выразительную гримасу, показывая как именно искривится мое лицо.
Я к тому времени уже знала, что с цыганками нужно вести себя осмотрительно. От своей мачехи, врача-терапевта, я слышала замечательную историю, происшедшую с нею во время дежурства в харьковской районной больнице. Туда привезли молодую цыганку, которая, хитростью проникнув в чью-то квартиру, ловко сунула в рот и проглотила лежавшие погд зеркалом золотые кольца хозяйки. Хозяйка колец, не будь дурой, заперла дверь и вызвала милицию, и цыганку доставили в приемный покой больницы. Там ей дали сильное слабительное и усадили на горшок под надзором моей мачехи, дежурной сестры и милиционера.
Как только цыганку пронесло, милиционер поднял ее с горшка, а мачеха и медсестра уставились в горшок в поисках колец. Кольца были тут как тут, но никто и глазом не успел моргнуть, как цыганка ужом выскользнула из рук милиционера, выхватила кольца из горшка и снова их проглотила!