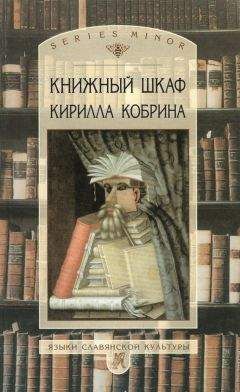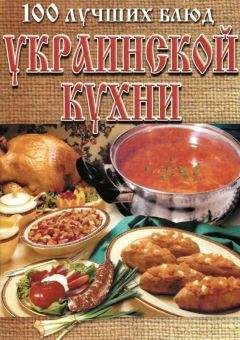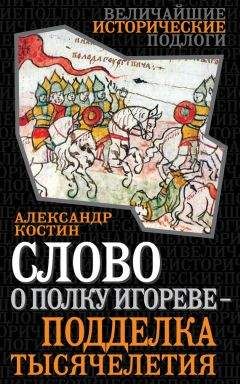Нина Воронель - Моя книжная полка. Мои собратья по перу.
И чтобы окончательно высветить это противоречие между неуступчивостью в стремлении к великому и уступчивостью, ведущей к вершинам успеха, я расскажу о третьей паре своих друзей режиссеров – Леониде и Ларисе Алексейчук, в сравнении с гордыней которых даже исступленный натиск Цукермана выглядит ползучим путем конформиста.
В молодости оба они напоминали греческих богов не только статью, ростом и красотой, но и несносным неуживчивым характером. Сразу по окончании ВГИКа они сделали яркий документальный фильм о ленинградском хореографе-модернисте Якобсоне, немедленно после создания закрытый властями как за эстетические грехи хореографа, так и за эстетические грехи режиссеров. В процессе закрытия фильма Алексейчуки перессорились со всем попавшимся по дороге начальством, практически обрекая себя таким образом на волчий билет. Промаявшись несколько лет без работы и денег, они воспользовались щелью в железном занавесе, открывшейся в результате еврейской эмиграции, и ускользнули в Канаду, в город Торонто, неблагодарно прозванный ими Хуторонто, где Ларису приветила еврейская община, а Леню – украинская.
Оба они, способные и напористые, легко овладели английским языком, после чего без особого труда получили на канадском телевидении несколько заказов на мелкие документалки с перспективой дальнейшего продвижения. Тут бы им и осесть, но они быстро пресытились прелестями провинциальной жизни и начали лихорадочно искать пути бегства в культурный центр мира, Нью-Йорк. А где же еще, казалось, можно жить?
И снова хорошее знание английского в сочетании с живостью ума и яркой одаренностью подкинуло им отличную карту – Леню приняли на должность профессора на кино-факультет Нью-Йоркского университета. В то время на них стоило посмотреть: позабыв свое полуголодное российское существование, они наслаждались щедрыми дарами успеха, - профессорской зарплатой, аккуратно приходящей на банковский счет первого числа каждого месяца, и просторной университетской квартирой на Вашингтон сквер, в самом сердце артистического Нью-Йорка.
Другие люди радовались бы своей удаче до конца дней, но это – другие, не Алексейчуки! Им очень скоро стала ненавистна Америка с ее массовым размахом и эстетической неразборчивостью, и того ненавистнее собственные студенты, ограниченные недоучки и недоросли, по мнению Леонида, полностью разделяемому Ларисой. В результате конфликта с университетским начальством из-за очередного бездарного миллионерского сынка, папа которого исправно платил огромные деньги за обучение, Алексейчук влепил пощечину декану и, громко хлопнув дверью, вышел вон по собственному желанию.
С Нью-Йорком было покончено, как с Москвой, Ленинградом, Монреалем и Торонто. Выгрузив свое барахло из почти даровой университетской квартиры, Алексейчуки отбыли в Европу, заранее предвкушая, как они эту старую дуру покорят и поставят на колени.
Но это оказалось не просто. Старая дура Европа не хотела покоряться и становиться на колени перед заносчивыми молодыми гениями, которые в пылу битвы не заметили, что молодость уже прошла. С презрением отринув замшелый Лондон, они поселились в Риме – в их сердцах еще жила память о великолепии и мощи несравненного итальянского кино. В пылу битвы они не заметили, что молодость итальянского кино тоже уже прошла.
По пути Леонида и Ларису подстерегали разные незначительные соблазны – документалка тут, хроника там, но они с гордым презрением отказывались размениваться на мелочи. С особым гневом они осуждали соглашателей Чаплиных, готовых снимать что угодно, лишь бы снимать. Это осуждение не мешало их дружбе – ежегодно встречаясь, они обсуждали грандиозные проекты одних и мелкотравчатые успехи других, забывая, что режиссура подобна игре на скрипке и отмирает без постоянной тренировки.
Славу Цукермана с его коммерческими «панамами» тоже, естественно, включали в повестку дня и с пренебрежением отметали – Алексейчуков не привлекал коммерческий успех, они жаждали только высшего, подсознательно руководствуясь набившим оскомину лозунгом «лучше умереть стоя, чем жить на коленях».
Получить удовольствие от собственной непреклонности им мешала я, каждый раз заостряя проблему настойчивым напоминанием, что важно не только, где стоять, умирая, но и на чьих коленях жить.
А годы шли. Непреклонные Алексейчуки писали сценарий за сценарием, точно так же, как несгибаемые Цукерманы, а может, и те, и другие и сейчас пишут, только уже не просят прочесть. И хоть сущность этих параллельных сценариев была полностью перпендикулярна – у одних расчитанная на кассовый успех, у других – на вечность, судьбы их оказались практически неотличимы, поскольку на какую грандиозную величину ни умножить нуль, он так нулем и остается.
Я бы назвала это трагедией, которую смягчает только общее презрение обеих гонористых пар к их общим друзьям Чаплиным, преуспевшим без излишних запросов как к кассе, так и к вечности. А творческую жизнь Чаплиных я назвала бы мелодрамой, что всегда предпочтительней трагедии, как поется в народной песне:
Если дашь – помрешь, и не дашь – помрешь,
Так лучше дать и помереть, чем не дать и помереть!
Но о Чаплиных не сейчас и не здесь. Я надеюсь написать о них отдельно, в другой главе, - об их поэтических взлетах и деловой сноровке, об их
щедрости и конформизме, а главное, об их неповторимом обаянии, с помощью которого они сумели сделать своими верными союзниками всех
тех, кого Слава Цукерман проклинал за несговорчивость и черствость.
ПАРИЖСКАЯ ТУСОВКА
Другим средоточием осиротевшей российской интеллигенции естественным образом стал Париж – ведь он был таким центром всегда, и до революции, и после. Главной особенностью парижской эмигрантской тусовки была отличная от американской концентрация русско-еврейской смеси. Где-то в промежутке между двумя мировыми войнами замечательно написал об этой смеси поэт Довид Кнут:
Особенный еврейско-русский воздух,
Блажен, кто им когда-нибудь дышал!
Ко времени «третьей волны», как назвали нашу эмиграцию, этот еврейско-русский воздух стал уже изрядно разреженным – то ли Париж потерял часть своего обаяния, то ли концентрация смеси не обеспечивала прежнего очарования.
В Америку попадали все, кто умудрился в России получить вызов из Израиля и свернуть по дороге в Рим, а это, несмотря на изрядное количество прилипал, в основном были евреи. Попасть в Париж было значительно сложнее. Туда прорывались истинные изгнанники, вроде Владимира Максимова, высланные советскими властями за особые провинности, поддельные изгнанники, вроде Синявских и Ефима Эткинда, пристроенные во Франции теми же властями за особые заслуги, и православные диссиденты, вроде Володи Аллоя, во-время заручившиеся поддержкой русских эмигрантских кругов.
Поскольку жизненное пространство в Париже было гораздо более ограниченным, чем в бескрайней Америке, отношения между различными группами быстро превратились в бескровную окопную войну. Накал ненависти и неприязни порой поражал своим бессмысленно высоким градусом. А впрочем, природная склонность к детективным трактовкам в сочетании с постепенно развившимся уважением к работе советских секретных служб, потихоньку нашептывала мне, что не так уж все стихийно и бессмысленно. Как сказал поэт: «Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно?». А кому это было нужно, ясно и без специальных разъяснений.
По приезде в Париж я часто оказывалась между двух, а то и трех огней. Главными стрелками были мои друзья Синявские – они жили в постоянном состоянии то круговой обороны, то лобовой атаки.
Порой мои потери были очень чувствительными. Так в ходе этой войны я осталась без авторского экземпляра знаменитого авангардистского сборника-альбома «Аполлон», изданного Михаилом Шемякиным.
В конце 70-х художник пригласил меня участвовать в своем сборнике, который по выходе заслуженно прославился необычным для российской литературы тех лет вызывающим подбором как составляющей его словесной мозаики, так и исключительной красотой оформления, - весь печатный текст там перемежался фотографиями лучших шемякинских картин. Я надеюсь, что моя пьеса «Змей едучий» тоже поспособствовала славе сборника – я сама, во всяком случае, до сих пор числю эту пьесу в главном пакете своих творческих достижений.
Альбом «Аполлон», крупноформатный, многоцветный, а впридачу еще и в твердом переплете, был очень дорог - сразу же по выходе в свет он стоил 400 долларов, а уж теперь, когда он стал библиографической редкостью, ему, я полагаю, и цены нет. Но увы! - хоть мне полагался авторский экземпляр не только за пьесу, но и за огромный, во всю страницу портрет, - сборника этого у меня нет.