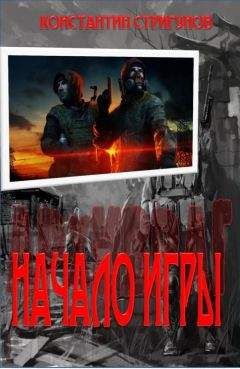Виталий Коротич - Кубатура яйца
Американский драматург Эдвард Олби сказал мне как-то очень точную мысль о том, что с каждым «витком» изощренности порнографических ли, иных ли средств, которым надлежит вызывать читательское сверхвозбуждение, порог читательской восприимчивости деформируется с устрашающей быстротой. Упрощая пример, можно сказать, что если сегодня вы повергли зрителей в шок, продемонстрировав разрезание киногероя на три части при помощи кухонного ножа, то завтра вам придется резать его на восемь частей при помощи электропилы, а послезавтра уже бог весть что придется, ибо правила игры, в том числе порнографической, установлены не вами. Это социальные правила.
Социальные кризисы неразрывно связаны с кризисами личностными. Коль уже общество приняло порнографию в себя и дало ей развиться, оно должно было в своей болезни созреть для этого, как царапинка на коже созревает в абсцесс. Когда гной порнографии начинает пропитывать собой даже политику (печатаются книги об интимной жизни президентов; несколько сенаторов на служебные средства нанимали себе в секретарши профессиональных проституток), это угрожающе. Выплеснувшись на киноэкраны и страницы книг, порнография нигде не способствовала созданию шедевров, — напротив, искусство тлеет изнутри, в сердцевине, прогорает насквозь; только ли искусство? Короче говоря, я не утверждаю, что порнография приводит к немедленному обалдению общества, но то, что она откровенно способствует такому обалдению, — очевидный факт.
Воспитание дураков — одно из наиболее жестоких, бесчеловечных занятий; порнография входит в него составной частью. Об этом немало рассуждают и пишут сами американские интеллигенты, которых уже страшит образ гражданина с осоловевшими, стеклянными глазками; всех порядочных людей должен страшить: ведь испокон веков солдатам, которых собирались лишить последних способностей к активному мышлению, прямо к линии фронта привозили спиртное и гулящих девиц…
…Новоявленное бесстыдство оказалось очень скучным. Из человеческого общения изымались многие подробности, казавшиеся несущественными вначале, но резко сказавшиеся потом, — человеческое тело становилось анонимным, как незнакомый автомобиль; оно становилось волнующим само по себе, не затрагивая ума, лица, души обладателя. И здесь, по-моему, сработал великий закон, действующий и в сфере искусств: «Безликость не выживает». Безликость умеет быть шумной и суматошной, но все это до поры до времени, срок бытия безликости краток и неволнующ, а порнография прежде всего безлика. Она еще многое поуродует — она уже немало опачкала, — но порнография входит лишь одним из кристалликов в многоклеточный организм огромной страны, устроенной очень сложно.
Страна занемогла, и множество проявлений оказалось у болезни ее. Семья страдала как одна из клеток ослабевшего государственного организма; она не гибла в пароксизмах разводов и не корчилась под неприличными анекдотами. Но переставали стыдиться крайностей, пробовали «жить сообществами», в развеселых газетках предлагали меняться супругами или, словоблудствуя, с лихим цинизмом обсуждали разные разности, не снившиеся авторам романов, считавшихся порнографическими еще в пятидесятые годы. Одна молодая женщина застенчиво пожаловалась социологам: «Я так себя глупо чувствую. Мой приятель хотел бы, чтобы мы как-нибудь повеселились втроем или вчетвером, а мне ужасно неудобно. Наверное, в сущности, я не столь либеральна, как хочу казаться». Ну конечно же основная масса людей живет-поживает, как прежде, но то, что можно публично выговаривать себе за нежелание заниматься любовью (назовем это так) втроем или вчетвером, — тоже весьма показательно. Иные семьи существуют фактически, но не спешат с регистрацией брака; возраст людей, узаконивающих брачные отношения, очень повысился, но во многих случаях люди так и не узаконивают ни своих общностей, ни их результатов. В прошлом году в Вашингтоне был впервые установлен весьма странный рекорд. У незамужних женщин родилось за год четыре тысячи девятьсот восемьдесят восемь детей, у замужних же — четыре тысячи семьсот пятьдесят восемь, то есть «незаконных» детей родилось больше. Хотите подробностей? Сорок шесть процентов «безотцовщин» родилось у мам, которым нет девятнадцати лет, двести младенцев — у пятнадцатилетних матерей, сто пятнадцать — у женщин (сложно у меня с терминологией), которым пятнадцати не исполнилось, а четверо — у двенадцатилетних..
Я не хочу вздымать во гневе руки и осуждать нравы — цифры красноречивы без комментариев; мне страшно за детей, которые будут так расти, — или кто-нибудь из вас думает, что пятнадцатилетние мамаши смогут воспитать тайные плоды неосознанной страсти? Что я наверняка знаю — большинство из девчушек, поспешно расставшихся с невинностью и произведших себе собственные куклы, не побежит топиться с горя в реке Потомак. В Вашингтоне у меня несколько лет назад произошла — и запомнилась — встреча, которая с большой долей вероятности позволяет прогнозировать будущее энергичных молодых мам.
Свернул я в проулок, сокращая дорогу к гостинице, и наткнулся на стайку разноцветных (впрочем, преобладали черные) детей; было похоже, что шестиклассники возвращались из школы и остановились посекретничать. Я широко улыбнулся им, еще хотел по затылку какого-нибудь погладить — очень уж симпатичные были детки. Но стайка расступилась и вытолкнула навстречу мне чернокожую девчушку — едва до нагрудного кармана мне ростом, совсем маленькую, в цветастом платье-халатике. Девчушка рывком распахнула халатик — под ним ничего из одежды не было — детское тельце шоколадного цвета. Улыбнулась она вполне профессионально и, протяжно, по-южному выговаривая слова, пообещала мне множество удовольствий. Девочкин эскорт стоял вокруг с очень серьезным видом — правые руки в карманах. Смешнее всего бы я, наверное, выглядел, начни их стыдить; не придумал ничего лучшего, как молча пройти сквозь детишек — словно сквозь тростник: ни один не был выше моих подмышек.
…С тех пор как я узнал приведенную здесь официальную статистику вашингтонских деторождений, нет-нет и подумаю: а чем виноваты дети, что будет с ними? Осколки сексуального взрыва улетели в будущее, дальше что?
Ну, что касается слова «дальше», то оно не всегда было популярным в Америке. За последние десятилетия авторитет и значение размышлений о будущем возросли, но американцы традиционно с трудом привыкают к понятиям и вещам, которые невозможно взвесить, измерить или потрогать. Я уже писал, что Америка в последние годы постарела, у нее убавилось уверенности в себе и подчас прибавилось суетливости. Но в то же время ведь именно сейчас, как никогда прежде, можно почувствовать, что жители Соединенных Штатов уже не ощущают себя, как правило, беглыми европейцами, африканцами, азиатами, — заработаю, мол, денег и уеду домой… Теперь Америка все больше обрастает собственными детьми, американцами насовсем, болеющими за свою родину, мучительно размышляющими о ней. О морали говорят много, но честные люди ищут мораль, соизмеримую с главной мировой болью. В Медисоне возле мотеля «Парк Мотор Инн», я видел демонстрацию против приезда в город сотрудника ЦРУ, желавшего прочесть лекцию о своем участии в пиночетовском путче. Этот самый сотрудник, некий Дэйвид Эттли Филлипс, кричал о морали; о морали скандировали демонстранты; о морали бурчал дежурный полисмен в вестибюле; о морали попискивали старушки, которые не могли про толпиться на лекцию к цээрушнику сквозь ряды протестующих. Америка очень сложно переживает свои моральные кризисы, страдая от собственной душевной боли, от муки прикосновений к пустоте. Путь этот очень сложен и видим со стороны; вчера еще заваливавшая мир портретами белозубых, мускулистых парней, легендами о следопытах, пересекающих континент, славными продуктами своих неутомимых ума и рук, Америка вдруг принялась рушить легенды о себе самой. Порой даже переписывались образы героинь, навсегда вросших в увлекательность рассказа о покорении новых земель; унижение женщины — это всегда страшно, и ни одна нация не может себе позволить такой роскоши без угрозы потерять собственное лицо. Это ведь патология, злая выдумка, мазохизм, когда какая-нибудь сучка заявляет с глянцевых страниц прекрасно сверстанного ежемесячника, что нормальную женщину могут интересовать в джинсах только два места — спереди, где замок-«молния», и сзади, где накладной карман с кредитными карточками. А ведь американские женщины, кроме всего прочего, придумали джинсы и научили мир носить их — как они терпят эти пощечины? Ну ладно, все это, конечно, не стало — не могло стать — главнейшим из лиц Америки, но оголенность внезапно состарившейся страны хлынула на ее витрины и глянцевые обложки. Все взаимосвязано; порнография духа — по терминологии Андрея Вознесенского — болезненная для каждого, кто желает добра великому народу Америки, прежде всего для самих американцев. Ну конечно же можно пойти по той логике, что люди хотят платить, и они получают то, за что платят, — словно суп из хвостов кенгуру или сладких муравьев по-кантонски. Но Кеннет Тайнен, англичанин, ставший одним из организаторов постановки на Бродвее порнопредставления «О! Калькутта!», говорит очень точно: «Это подарок для усталого путешественника — в чужой стране, где он не знает языка и ни с кем не знаком. Я считаю, что это абсолютная социальная необходимость для людей, которые некрасивы, одиноки и стары…» Но «О! Калькутта!» идет вовсе не для уродливых стариков; просто путешественники, больше трех с половиной веков назад сошедшие на берег Америки с легендарного парусника «Мейфлауэр», очень устали за минувшие с тех пор годы — в нескольких поколениях. Корабли приставали к незнакомому берегу один за другим, но люди, сходившие на берег, зачастую узнавали такие одиночество и отчуждение, каких не встречали в оставленных своих бедных заокеанских домах. Как-то я разговорился об этом с довольно известным в Штатах поэтом Виктором Контаски. Из переводимых мной в течение многих лет американских стихов я почерпнул очень точное впечатление о том, насколько человек здесь бывает отчужден от земли, на которой строит свой дом, от птиц и зверей, населяющих эту землю. От других людей тоже. Земля Америки бережет свою непокорность — ее деревья посажены кем-то незнакомым тебе, в ее земле не похоронены твои прадеды, хозяева этой земли уничтожены тобой, европеец, и, умирая, они не рассказали ни о чем. Америка переполнена своей непокорностью, своим неподчинением пришельцам — земля ее покоряется, лишь будучи изрезанной, вздыбленной, разверзнутой; ее бизоны покорились лишь после гибели, ее индейцы вовсе не покорились. Виктор Контаски показывал мне пейзажные стихи, где деревья вцеплялись в одежду, стремясь ее разорвать, а ручей уходил сквозь ладони жаждущего. Дело в расстоянии между человеком и окружающим миром. Я знаю стихи о расстояниях между человеком и миром очень почитаемых мною современников — Теодора Ретке, Кеннета Петчена, Сильвии Плат, Роберта Лоуэлла, — пострадавших от одиночества на отчужденной земле (Сильвия Плат кончила самоубийством). Роберт Лоуэлл пишет о самом населенном городе западного полушария так (когда-то я делал свободные переводы этих стихов, и здесь — отрывок):