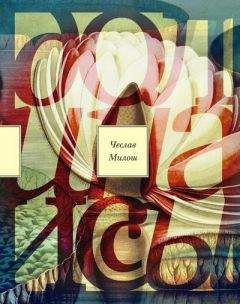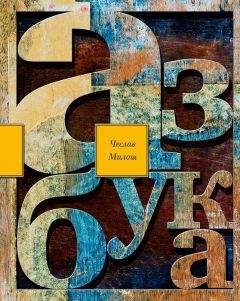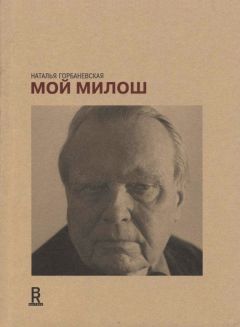Чеслав Милош - Порабощенный разум
До сих пор считалось само собой разумеющимся, что у человека всю жизнь одни и те же имя и фамилия. Теперь же оказывается, что по разным соображениям желательнее сменить имя и фамилию и заучить наизусть свою новую биографию. Человек привыкает, прежние имя и фамилия отодвигаются в тень, он обретает новую личность. Когда жены остаются без мужей, с которыми неизвестно что стало, а мужья — без жен и когда они носят иные, чем до войны, фамилии, трудно играть во всякие акты гражданского состояния. Вступить в брак — это значит теперь попросту поселиться вместе, и подобная форма брака, к которой прежде относились пренебрежительно, получает общественное признание.
Бандитские налеты считались когда-то преступлением. Теперь совершившие налет на банк получают титул героев, потому что награбленные деньги пополнят кассу подпольной организации. Обычно это делают молодые парни с внешностью балованных детей. Убить человека отнюдь не является для них сложной нравственной проблемой.
Соседство смерти уничтожает сдерживающие тормоза стыда. Мужчины и женщины, знающие, что дату их смерти записал в свой блокнот откормленный тип с хлыстом и пистолетом, который решает их судьбу, совокупляются у всех на глазах, на малом клочке земли, огороженном колючей проволокой, который и есть их последнее земное пристанище. Восемнадцатилетние парни и девушки перед тем, как занять позицию на баррикаде, где они будут сражаться с пистолетами и бутылками бензина против танков, хотят попользоваться своей молодостью, за которой, вероятно, не последуют годы зрелости, и они не заботятся о приличиях, существующих в ином, отдаленном от их времени измерении.
Который мир «естественный»? Тот, довоенный, или этот, военный? Оба естественны — судит человек, если ему дано было оба познать. Нет института, нет обычая или привычки, которые не могли бы измениться. Все, чем живут люди, — дар той исторической формации, в которой они оказались. Текучесть и постоянное изменение — общее свойство явлений, а человек — существо пластичное, и можно вообразить себе день, когда отличительной чертой уважающего себя члена общества станет хождение на четвереньках с пышным султаном из цветных птичьих перьев на заднице.
Люди в странах Запада, а особенно американцы, кажутся нашему интеллектуалу несерьезными именно потому, что они не прошли через опыт, который учит понимать относительность любых суждений и привычек. Отсутствие воображения у них — поразительное. Поскольку они родились и воспитаны в определенном общественном порядке и в определенной системе ценностей, то они думают, что иной порядок — «неестественный» и что он не может удержаться как противный человеческой природе. Однако их тоже может настигнуть огонь, голод и меч. Вероятнее всего, это и случится, поскольку в жизни человечества действует закон сообщающихся сосудов: трудно поверить, что когда одна часть земного шара переживает великие бедствия, другая половина должна продолжать стиль жизни девятнадцатого века и о страданиях своих далеких ближних узнавать только из кинохроники и из газет. Примеры учат, что так не бывает. Житель Варшавы или Будапешта тоже видел когда-то бомбардировки Испании или пылающий Шанхай в кино, но вскоре убедился, как выглядит это и многое другое на практике. Об НКВД он читал мрачные истории, пока не оказалось, что ему самому придется иметь дело с этой организацией. Если что-либо где-либо есть, то это будет везде. Такой вывод он делает из своих наблюдений. И то, что Америка до поры до времени остается благополучной, не вызывает у него особенного доверия. Он считает, что события 1933–1945 годов в Европе — это предвестие того, что произойдет и в других местах, а восточноевропейское сознание с этой точки зрения несравненно более продвинулось в понимании современных событий, чем сознание жителей тех государств, которым ничего подобного не довелось испытать.
Он мыслит социологически и исторически, и этот способ мышления глубоко в нем укоренен, потому что он научился так мыслить в очень нелегкой школе, где за незнание грозила не плохая оценка, а гибель. Поэтому он особенно податлив на такие теории, которые предвидят резкие перемены в странах Запада: почему же там должно существовать то, что в других странах уже не существует?
Единственная система мышления, доступная ему, — диалектический материализм, и он для него чрезвычайно привлекателен, потому что говорит понятным для его опыта языком. Иллюзорный «естественный» порядок в странах Запада обречен, согласно диалектическому материализму (в сталинской трактовке), на внезапную катастрофу в результате кризиса. Там, где возникает кризис, господствующие классы прибегают к фашизму как к средству против революции пролетариата. Фашизм означает войну, газовые камеры и крематории. Правда, кризис, который, как предсказывали, будет в Америке в момент демобилизации, не наступил; правда, Англия ввела у себя социальное страхование и социализацию медицины, как нигде и никогда еще не бывало, а возникновение антикоммунистической истерии в Соединенных Штатах отчасти объясняется страхом перед другой великой державой, но все это только модификации подтверждающегося во всем остальном образца. Если мир поделен между фашизмом и коммунизмом, разумеется, фашизм должен проиграть, поскольку это последняя, отчаянная попытка буржуазии, метод правления, основанный на демагогии, что на практике ведет к выдвижению в руководители людей безответственных. В решающие моменты эти люди делают глупости (например, политика жестокости в отношении населения, проводившаяся Гитлером на Востоке, или действия Муссолини, ввергнувшего Италию в войну).
Умозаключая подобным образом, человек, о котором идет речь, отнюдь не обязательно является сталинистом. Наоборот, зная, сколь сомнительны достоинства той системы, которая разработана в Центре, он очень обрадовался бы, если бы гигантский метеорит смел с поверхности земли причину его мучений. Однако он всего лишь человек, он взвешивает шансы и знает, что плохо быть на той стороне, которая осуждена существом, занявшим в двадцатом столетии место Бога, то есть Историей. Пропаганда, которая на него давит, всеми средствами старается укрепить его в убеждении, что нацизм и американизм — явления тождественные, поскольку вырастают на базе одних и тех же производственных отношений. Он верит этой пропаганде не в меньшей степени, чем средний американец верит своим журналистам, которые его уверяют, что гитлеризм и сталинизм ничем не различаются.
Если такой человек даже находится на высоких ступенях иерархии и имеет доступ к информации, он все равно слабо ориентируется в силе и слабости Запада. Оптический инструмент, которым он пользуется, так сконструирован, что позволяет видеть лишь определенные, заранее заданные поля зрения. Глядя в него, находишь подтверждение тому, что надеялся увидеть (подобным образом и дипломатические донесения, получаемые руководителями, отождествляют инструментальный диапазон Метода с действительностью). Например, привыкнув жить в системах, в которых закон не существует, то есть является лишь орудием в руках Партии, а единственный критерий — эффективность действия, человек с трудом представляет себе строй, при котором каждый гражданин, на самом верху и в самом низу, ощущает себя связанным положениями закона. Положения эти могли быть приняты, чтобы охранять интересы привилегированных групп, но продолжают существовать, хотя бы даже интересы изменились, и заменить их иными положениями не так-то легко. Каждый гражданин опутан сетью законов, время возникновения которых уходит в далекую давность. Это очень обременительно, механизм общественной жизни — неповоротливый, и те, кто хотел бы по-настоящему действовать, бьются беспомощно. Отсюда непонятные для обитателя Центральной и Восточной Европы откладывания и проволочки, абсурдные решения, политические кампании, рассчитанные на настроения избирателей, демагогия, взаимные счеты. В то же время это дает защищенность гражданину: схватить на улице человека, который не нравится властям, впихнуть его в «воронок» и увезти в концлагерь — великолепное решение всех проблем, но трудно это применить там, где преступником считается только тот, кто совершил наказуемое деяние, четко определенное в таком-то параграфе. Нацистский же и советский уголовные кодексы совершенно сходны в том, что стирают границу между поступком наказуемым и ненаказуемым: первый — определяя преступление как всякое действие, направленное против интересов немецкого народа, второй — как всякое действие, направленное против интересов диктатуры пролетариата. Стало быть, то, что именуется «бездушным буржуазным формализмом», дает некоторые гарантии, что отец семейства, вместо того чтобы вернуться домой к ужину, не угодит в те регионы, где белым медведям хорошо, но людям плохо. Это не позволяет также применять научно разработанные пытки, под действием которых каждый признается в совершенных и несовершенных преступлениях. Пропаганда старается убедить граждан стран народной демократии, что закон на Западе везде фикция и служит интересам правящих классов. Может быть, и фикция, но для правящих не очень удобная. Если хочешь кого-нибудь наказать, приходится порядком попотеть, чтобы действительно доказать ему его вину, адвокаты прибегают ко всякому крючкотворству, дело затягивается апелляциями, кассациями и т. д. Разумеется, бывают и преступления под покровом закона. Однако до сей поры закон связывает там руки как правящим, так и управляемым, что можно считать — кто как хочет — или силой, или слабостью.