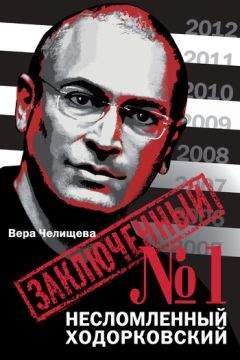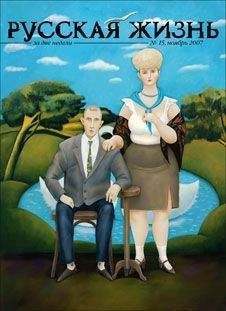Журнал Русская жизнь - Октябрь семнадцатого (ноябрь 2007)
А потом был бы октябрь, и здесь я почувствовал бы некое неприятное противоречие. В феврале я считал своим долгом ругаться и сыпать мрачными прогнозами, но общая радость освобождения, надежды, да и просто хорошая погода нет-нет и кружила бы мне голову, и вспоминал бы я это время как глупое, но светлое. А вот в октябре все, казалось бы, начало устаканиваться, и мне с моей тягой к порядку и ненавистью к либеральным болтунам это должно было бы нравиться. Но то ли погода была в то время очень уж мерзотная, кислотная, то ли нечто в большевистской стилистике стало бы меня отпугивать практически со второго дня их власти, - боюсь, мне резко разонравилась бы их решительность. До питиримсорокинских яростных обличений и бунинской кипящей желчи, конечно, не доходило бы, да и куда мне - но, возможно, я даже начал бы опять захаживать к Зине с Дмитрием и Дмитрием-2. Мережковский-то, в отличие от Философова, всегда мне нравился, как и его историческая проза, - но от жены, конечно, пошлятиной разило за версту, а сочинить «Чертову куклу» приличный литератор вообще не в состоянии. Первое же после долгого перерыва посещение их салона надолго отбило бы у меня охоту якшаться с ними. Получилось бы по Солженицыну: каждая сторона подталкивает другую к худшему решению. Пойдешь к либералам - думаешь: нет, лучше большевики. Пойдешь к большевикам - нет, лучше монархисты. Кинешься к монархистам - нет, лучше либералы! Со стороны эти метания, наверное, выглядели бы конформизмом, и Савинков - которому я по старой памяти симпатизировал бы: как же, террорист, жизнью рисковал - холодно наговорил бы мне презрительных мерзостей насчет того, что некоторый талант достался слабодушному, мелкому, трусоватому человечку, прячущему свою внутреннюю пустоту за так называемой интеллигентностью. Я бы очень обиделся и сказал, что если он такой же террорист, как писатель, то немудрено, что большинство его акций заканчивались неудачами. Он бы побледнел сквозь азиатскую свою смуглость и сказал, что я не смею, не смею, что они святые, а я обыватель, и пусть я немедленно возьму свои слова обратно. Я бы ответил ему просто, по-русски, и мы бы разошлись - каждый с сознанием внутренней победы и несомненной глупости случившегося.
Дальше пошло бы хуже: я все отчетливей понимал бы мерзость большевизма - но и его безальтернативность. Уже к маю 1918 года было бы ясно, что перед нами не революция, а редукция, многократное упрощение культуры и значительное сокращение населения - ценой которого только и возможно спасение империи. Большевики просто сделали то, на что у Романовых не хватало ни силы, ни легитимности. Чтобы понять это, не обязательно быть сменовеховцем и ждать до конца гражданской войны, прозревая в эмиграции и просясь обратно. Волошин уже в 1919 году понимал, что Петр Великий был «земли российской первый большевик» - а большевики, в некотором смысле, - последний Петр.
Газеты мои позакрывались бы. Как большинство тогдашней интеллигенции, я выживал бы близ Горького, начал бы из деликатности хвалить его сочинения, которые прежде всегда ругал, но он бы меня осаживал, конечно (только для виду, ибо был не шутя тщеславен). Возможно, я переехал бы в ДИСК (Дом искусств, потом кинотеатр «Баррикады», теперь тоже закрывшийся), дружил бы с Пястом, Грину сначала казался бы пошляком, но потом мы бы сошлись на почве общей любви к морю. Наверное, интереснее всего мне было бы с Гумилевым. Один раз я поговорил бы с Блоком, но он ждал бы чего-то, чего я никогда не смог бы сказать. Наверное, я должен был бы объяснить ему, что в «Двенадцати» он все-таки прав, - но вряд ли я смог бы сделать это достаточно убедительно.
Я читал бы лекции, получал пайки, вел кружок вроде серапионовского, чувствуя себя не столько спасителем и пропагандистом старой культуры, сколько крысоловом, растлителем малолетних: хватает и того, что мы живем с этим багажом, им-то зачем навешивать гири на ноги? Ведь они прелестные, веселые молодые люди, они смогут быть тут счастливы! Но тайный голос шептал бы мне, что без культуры никто не будет счастлив в голодном рассыпающемся городе, что только умением цитировать стихи покупается их легкое призрачное счастье. Мандельштам доказывал бы мне, что Вагинов гений. Я бы стихов Вагинова не любил и советовал ему переходить на прозу, что он, впрочем, отлично сделал и без меня.
В гражданскую я ездил бы по деревням менять вещи на хлеб, но эта приживальческая-выживальческая жизнь из милости очень скоро мне надоела бы, и я, что делать, пошел бы сотрудничать с новой властью. Гиппиус в очередной раз перестала бы подавать мне руку, и это убедило бы меня в правильности моего выбора. Все-таки очень многое большевики сделали правильно, а то уж до того все прогнило… До какого-то момента в Петрограде еще можно было ругать Зиновьева, и я ругал бы, потому что он и в самом деле неприлично себя вел. Но потом потребовалась бы уже голая пропаганда, я бы перешел на фельетоны, часто стихотворные, и попытался бы устроить советский «Сатирикон», но тщетно. Во время гражданской войны было еще не до смеху. Все вокруг стремительно бежали бы - кто на юг, к Деникину, кто на восток, к Колчаку. Друзья-сатириконовцы звали бы меня с собой в турне. Я бы съездил в Одессу, увидел дикую пошлость этой искусственной жизни - и никуда не поехал бы с последними пароходами, остался бы там. Женился бы на одесской гимназистке, наверное, - как тогда было принято, без документов, просто так. Перевез бы ее в Питер, в свою холодную квартиру. Устроился бы на совслужбу. Стали бы как-нибудь жить.
Мне, в общем, стало бы кое-что нравиться - футуристический задор ВХУТЕМАСа, московский футуризм, питерские молодые поэты, верящие, что все старое бесповоротно кончилось; наверное, думал бы я, революции другими не бывают, и у нас еще обошлось не так кроваво, как у французов… Доходили бы чудовищные слухи о терроре; я бы предпочитал не верить. Мой бывший приятель, с которым столько было выпито в репортерских забегаловках вдоль Фонтанки, свалил бы в Берлин и клеймил бы меня большевистским наймитом в эмигрантской прессе, подсчитывая, за сколько я продался. Так и вижу его скорбный, в прокуренных усах, ротик скобкой. Возможно, я написал бы ему ответное открытое письмо с обоснованием своей позиции, но ни в чем бы его не убедил: кричать «Продался!» так нравится русской интеллигенции, что отказать себе в этом удовольствии она не может. Оснований для положительной идентификации у нее нет, заслуг ноль, влияния на ситуацию - минус единица, и уважать себя можно только от противного, постоянно упражняясь в национальном спорте «руконеподавание». Впрочем, тут целое троеборье: неподавание, бойкот и «Мы говорили». Все это подробно описано у Горького в «Самгине»: чтобы ущучить типаж, понадобились четыре тома, и тех не хватило. «Говорить» легко, для этого в России ума не надо - все слишком понятно, но даже выбор между петлей и удавкой, заложником которого я оказался бы, кажется мне менее пошлым, чем предсказывать очевидное и горделиво самоустраняться. Меня интересует не правота, а правда, и потому я опять огребал бы с двух сторон: от большевиков - за интеллигентщину, от интеллигентов - за продажность. Я издал бы, наверное, пару повестей о том, как молодежь приспосабливается к мирной жизни после гражданской войны, но по этой части меня быстро забил бы А. Н. Толстой - он умел писать удивительно сочно. Хотя он спер бы у меня сюжеты «Гадюки» и «Голубых городов», меня считали бы его эпигоном.
Я переехал бы в Москву - в Питере слишком многое напоминало о прежней жизни, да и работы было меньше. Москва кипела, бурлила, НЭП стремглав вытеснил бы краткую революционную утопию, сокращения сокращались бы, возвращались бы прежние слова, привычки и развлечения - и это взбесило бы меня окончательно: вы что же, ради этого торгашеского триумфа пять лет морили и расстреливали друг друга?! Тут-то я и подумал бы впервые о том, что русская история слишком механистична, что человеку здесь нет места, что расстреливающие и расстреливаемые ничем не отличаются друг от друга и постоянно меняются местами. Мне даже померещился бы отъезд, но я, как всегда, передумал бы - от противного: съездил бы на месяц в Берлин, увидел бы послевоенную Европу, потерянных и тоскующих наших, того же Шкловского - и в панике прибежал обратно.
Но антинэповскую вещь я все же написал бы; «Комсомольская правда» меня бы проработала, Троцкий бы вызвал к себе для беседы и, увидев во мне оппозиционера, попытался бы завербовать. Я высказал бы опасение насчет того, что Сталин явно его переиграет; это очевидно не только из будущего. «Эта бездарь? Не смешите!» - фыркнул бы Троцкий и тут же перестал считать меня серьезным человеком. К счастью, написать обо мне ничего хвалебного он не успеет, и со временем это меня спасет. Я устроился бы к Кольцову в «Огонек». Там несколько раз пересекся бы с Маяковским, никому уже не хамящим, внутренне потухшим. Это вызвало бы у меня не злорадство, а сочувствие, и я попытался бы его утешить - неумело и неуклюже. Он вскинул бы на меня яростные глаза и промолчал, но при следующей встрече кивнул бы с неожиданной теплотой. Возможно, я бы что-то про него наконец понял, хотя бриковско-аграновский салон внушал бы мне стойкое омерзение. Ничем не лучше гиппиусовского: салоны все одинаковы. Только там хозяйка балдела от близости к Керенскому, а здесь - от близости к Чеке.