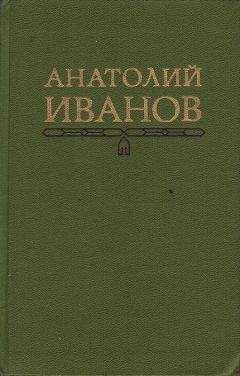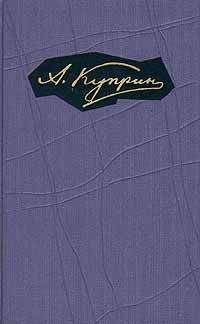Александр Блок - Том 5. Очерки, статьи, речи
Я думаю, такая радость близка сердцу устроителей нового драматического театра в Петербурге. Они не упустили основного принципа — ритма. После первых трех постановок, после того, как режиссер театра В.Э. Мейерхольд высказал свои основные принципы на одной из «сред» В.И. Иванова, после того, что мы видели на первом представлении «Сестры Беатрисы» Метерлинка, — мы можем ждать будущего от этого дела.
Принципы театра В.Ф. Коммиссаржевской несомненно новы. В так называемом «чеховском» театре К.С. Станиславский держит актеров железной рукою, пока не добьется своего, часто — усилиями нескольких десятков репетиций. Актеры движутся по сцене как бы в тени его могучей фигуры, и публика воспринимает автора сквозь призму этого талантливого и умного режиссера. Приемы Мейерхольда совершенно иные. Воспринимая автора, он дает актерам общие нити, вырабатывает общий план и затем, ослабляя узду, бросает на произвол сцены отдельные дарования, как сноп искр. Они свободны, могут сжечь корабль пьесы, но могут и воспламенить зрительный зал искрами истинного искусства. Нельзя закрывать глаз на страшную опасность такого предприятия; ведь в этом случае удача и неудача обусловливаются не только отдельными дарованиями труппы: актеры, даровитые сами по себе, могут впасть в разноголосицу; и еще двойной риск: новый театр есть вместе с тем школа для актеров; играя, они должны учиться и вырабатывать приемы нового репертуара.
Принимая все это во внимание, мы скорее склонны были отчаяться в новом театре после первых двух постановок. «Гедда Габлер», поставленная для открытия, заставила пережить только печальные волнения: Ибсен не был понят или, по крайней мере, не был воплощен — ни художником, написавшим декорацию удивительно красивую, но не имеющую ничего общего с Ибсеном; ни режиссером, затруднившим движения актеров деревянной пластикой и узкой сценой; ни самими актерами, которые не поняли, что единственная трагедия Гедды — отсутствие трагедии и пустота мучительно прекрасной души, что гибель ее — законна.
Вторая пьеса («В городе» С. Юшкевича) наивна, нужна для души; и пусть она пробуждает ежедневные слезы сострадания. Пусть это добрая весть о том, что людям больно, что людям трудно, что люди измучены; но это — не искусство, и пластика актеров опять пропала даром. После первых двух представлений было тяжело от внутренней неудачи.
С готовым уже предубеждением мы пошли на «Беатрису» Метерлинка, наперед зная, что цензура исковеркала нежнейшую пьесу, запретив ее название «чудо» на афише, вычеркнув много важных ремарок и самое имя Мадонны, а главное, запретив Мадонне петь и оживать на сцене. Мы знали, что перевод М. Сомова неудовлетворителен, что музыка Лядова не идет к Метерлинку. И, при всем этом, при вопиющих несовершенствах в частностях (из рук вон плохой Беллидор, отсутствие отчетливости в хорах, бедность костюмов и обстановки), — мы пережили на этом спектакле то волнение, которое пробуждает ветер искусства, веющий со сцены. Это было так несомненно, просто, так естественно. Пережила это волнение и будирующая публика, как будто эти долгие и шумные овации были демонстрацией против еще более будирующей газетной печати. Метерлинк, имеющий успех у публики, — что это? Случайность или что-то страшное? Точно эти случайные зрители почуяли веянье чуда, которым расцвела сцена, воплотив внезапно, нечаянно ремарку Метерлинка: «И вот среди восторженных хвалебных песнопений, вырывающихся со всех сторон, запружая толпою слишком узкую дверь, шатаясь на ступенях, появляются монахини, растерянные, подавленные, с преображенными лицами, опьяненные радостью и сверхъестественным ужасом…» Пусть не было живых гирлянд, обвивающих тела, и цветов, вырастающих в руках; но, когда гибкие голубые монахини наполнили театр торжественным, вспыхивающим шепотом: «Чудо! Чудо! Чудо! Осанна! Осанна! Осанна!» — мы узнали высокое волнение; волновались о любви, о крыльях, о радости будущего. Было чувство великой благодарности за искры чудес, облетевшие зрительный зал.
Ноябрь 1906
О реалистах
Начинать очерк о Горьком приходится скорбной страницей. В настоящее время надо говорить не о самом Горьком, а о критиках его, притом не о тех, которые продолжают, вопреки реальности, радоваться всякому его слову, и не о тех, которые беспощадно глумятся над ним, а о тех, которые с любовью и печалью обсуждают его нынешний упадок. Эти критики — гг. Философов, с его статьями «Конец Горького» («Русская мысль», апрель) и «Разложение материализма» («Товарищ», № 266), и Горнфельд, отвечавший Философову в статье «Кончился ли Горький?» («Товарищ», № 252).
Убедиться в том, что Горький потерял прежнюю силу, — очень не трудно: стоит прочесть те небольшие вещи, которые он поместил в сборниках «Знания» за прошлую зиму. Последние из этих вещей — «Мои интервью», «Товарищ» и «Мать» (за исключением пьес театральных, о которых речь будет дальше). Эти «интервью» читаются со стыдом; и не то стыдно, что Горький «невежественен», как отмечает Философов; эрудиции с него мы никогда не спрашивали. Стыдно то, что Горький дает в руки своим бесчисленным врагам слишком яркое доказательство своей бессознательности. «Мне просто захотелось написать веселую, для всех приятную книгу. Я чувствую, что до сего времени немножко мешал людям жить спокойно и счастливо», — пишет Горький в предисловии (XIII сборник «Знания»), и как бы внушает читателю: «Чувствуй, чувствуй, какой я иронический человек!» Действительно, на следующих же страницах оказывается, что Горький интервьюирует какого-то идиотического короля, который произносит, по его заказу, тирады, вроде следующих: «Бог и король — два существа, бытие которых непостижимо умом… Я и верноподданный моих предков, некто Гете, — мы, пожалуй, больше всех сделали для немцев… Истинная поэзия, скажу вам, это поэзия дисциплины…» и т. д. На все это Горький подает свои иронические реплики. В следующем очерке пошлости и плоскости вложены, в уста «Прекрасной Франции», но, к великому сожалению, собеседник ее говорит не меньшие плоскости и заканчивает свою тираду тем «плевком крови и желчи», который, опять-таки к сожалению, так оскандалил Горького. И опять обоюдно неостроумные диалоги в «Жреце морали» (XV сборник), и наивное сентиментальничанье по поводу слова «товарищ», уснащенного банальными эпитетами (XIII сборник). И, наконец, повесть «Мать» (начало в XVI сборнике), за которую, право, напрасно заступается Горнфельд. Некоторая стройность повести, и то сравнительная, зависит только оттого, что Горький «набил руку». Но ведь нет ни одной новой мысли и ни одной яркой строчки. Старая горьковская психология, им самим кастрированная; старые приемы: умирает отец — бледная тень отца Фомы Гордеева; — и остается жить с матерью, читать запрещенные книги и подвергаться обыску свирепых офицеров и солдат — сын — бледная тень Фомы Гордеева и еще кое-кого из прежних горьковских «человеков».
Скорбные итоги всей этой деятельности подводит Д. В. Философов с такой четкостью и ясностью, что мне остается только привести его слова: «Я утверждаю следующее: 1) сущность дарования Горького — бессознательный анархизм. „Босяк“ — тип не только социальный, но и общечеловеческий, тип бессознательного анархиста; 2) анархизм босяка Горького соединяется чисто внешним образом с социализмом; 3) полусознательное, механическое соединение двух непримиримых идей — материалистического социализма и иррационального анархизма — пагубно повлияло на творчество Горького, и 4) „философия“ Горького — общераспространенный, дешевый материализм, лженаучный позитивизм — философия оппортунизма, унаследованная от вымирающей буржуазии и находящаяся в резком противоречии с психологией пролетариата».
Против этих тезисов, может быть, нельзя возразить по существу. Но я совершенно понимаю то чувство, которое заставило г. Горнфельда заступиться за Горького и которое сам он может определить только отрицательно («не любовь», «не поклонение»). Может быть, это только чувство огромной благодарности за прошлое, и не за свое даже, а за прошлое русской литера туры, да еще сознание того, что живет среди нас этот Каннитферштан, у которого был такой «богатый дом и большой корабль» творчества. Впрочем, оканчивать цитату я не возьмусь ни за что, ибо знаю, что это «и грубо и даже кощунственно», как говорит Философов, который отказывается от заглавия своей статьи: «Конец Горького» и предлагает назвать ее «Кризисом Горького».
В конце концов оба критика сходятся на одном: на силе интуиции Горького, которая больше его сознания. Только г. Горнфельд думает, что эта сила — в настоящем, а г. Философов относит ее в прошлое. Горнфельд стоит на точке зрения художественного критика, Философов оценивает Горького с точки зрения общественной, научной и религиозной; при этом он необыкновенно веско спорит с Д. С. Мережковским, но во многом и соглашается с ним: «Когда Мережковский боится этой новой силы, — он прав. „Грядущий хам“, „внутренний босяк“, кроме своего „я“, никого и ничего не признающий ни на земле, ни на небе, сулит сюрпризы не очень приятные». Да, правда, правда, — может быть. Но когда Философов, говоря о Горьком, цитирует Мережковского, мне хочется быть скорее с Горнфельдом, чем с ним.