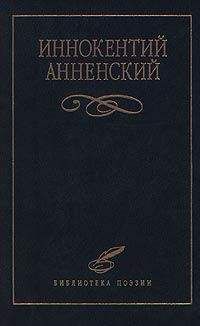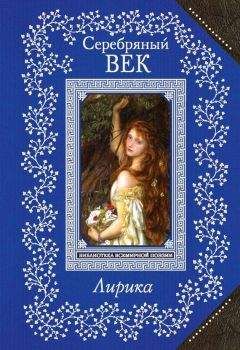Вячеслав Гречнев - Вячеслав Гречнев. О прозе и поэзии XIX-XX вв.: Л. Толстой, И.Бунин. Г. Иванов и др.
Подобное сочетание и чередование образных картин, бытовых, портретных и пейзажных зарисовок с прямыми авторскими рассуждениями и обобщениями характерно и для других названных его художественно-публицистических очерков. Такая «свободная» и гибкая форма повествования позволяла Толстому живо и остро откликаться на все новые и сколько-нибудь значительные факты и явления современной жизни.
В своих рассказах и повестях 1880-1900-х годов Толстой, таким образом, поставил проблемы, которые в начале XX века привлекли внимание многих художников слова, стали актуальными и, более того, модными, особенно, хотя и не только, в творчестве писателей-символистов, которые, не без оснований, предъявляли претензии на роль новаторов.
Толстой (не без творческого усвоения художественных достижений Достоевского и Чехова) опередил своих младших современников в исследовании глубочайших тайн человеческой души, «темных» инстинктов и подсознательных импульсов, в изучении их роли и аспектов их воздействия на сознательную жизнь человека. Он изобразил многослойность человеческого сознания, самый процесс протекания одновременно на разных уровнях сокровенных и неуловимых душевных движений, «механизм» возникновения ассоциаций. Он показал, в частности, как уживаются в человеке мысли и чувства прошлых дней и дней сегодняшних, как взаимодействуют они, и в особенности то, как влияют нравственный опыт минувших лет, воспоминания, содержащие память чувств, на поступки и поведение человека, живущего в настоящем. В этом же плане рассмотрения заповедных тайников человеческого сознания Толстого интересовали вопросы своеобразного социально-биологического отбора, совместимости и несовместимости особей мужского и женского пола.
Следует сказать, что в отличие от своих позднейших последователей и эпигонов он решал все эти проблемы более масштабно, в сравнительно широком социально-бытовом плане и отнюдь неоднозначно. Он воссоздал без всякого в целом сочувствия клинически верный и точный процесс распада человеческой личности, находившейся во власти стихийных и животных инстинктов, желаний и стремлений. Толстой явно осудил своих героев за слишком запоздалые раздумья о высоком смысле человеческого бытия, за каждый неверный взгляд и шаг который они сделали в своей предшествующей, такой «простой» и «обыкновенной» и такой «ужасной» жизни. Но в этом осуждении не было односторонности, ибо объективный художественный смысл толстовских рассказов и повестей (мы вновь повторяем это) ни в коей степени не сводился к защите и возвеличиванию только «сознательной» или только «духовной» стороны человеческого существования. Его авторская позиция всегда была шире и многограннее. Об этом свидетельствуют его дневниковые записи, в частности последнего года жизни (когда он, кстати, особенно много размышлял об этой самой «духовности»). В июне 1910 г. он запишет: «Да, благодарю Того, То, что дало, дает мне жизнь и все ее благо, — разумеется, духовное, которым я все еще не умею пользоваться, но даже и за телесное, за всю эту красоту, и за любовь, за ласку, за радость общения. Только вспомнишь, что тебе дано ничем не заслуженное благо быть человеком, и сейчас все хорошо и радостно» (Т. 58, 63) И он же, с такой убежденностью всегда ратовавший за то, чтобы человек жил прежде всего духовной жизнью, однажды заметил: «Кто живет вполне духовной жизнью, тому жизнь здесь становится так неинтересна и тяжела, что легко расставаться с нею» (Т, 53,95).
Нетрудно установить прямую связь раздумий Толстого о смысле и назначении человеческой жизни с проблемами, которые так же постоянно и не менее остро волновали его, — с проблемами смерти, людских взаимоотношений и одиночества. В упомянутых произведениях он наметил весьма плодотворные направления в художественном решении этих «вечных» тем. Но эти направления и открытия, к сожалению, далеко не всегда и не во всей их цельности и диалектической сложности были приняты во внимание и учтены его последователями. В повестях Толстого наметилась полемика с писателями, в творчестве которых обнаружились тенденции абсолютизации и эстетизации этих тем, с авторами, которые пытались перефразировать высказывание одного из героев Достоевского (если нет Бога, то все позволено) примерно следующим образом: все позволено, если есть смерть. Толстой в этом случае всегда делал прямо противоположный по смыслу вывод: думать о смерти — значит, прежде всего, думать о жизни, причем о жизни, лишенной мелких и суетных стремлений, осмысленной, духовной и полезной обществу. «Если думать о будущем, — писал он в феврале 1910 г., — то как же не думать о неизбежном будущем — смерти. А никто не думает. А надо и хорошо для души и даже утешительно думать о ней» (Т, 58,14).
Избег односторонности Толстой и в решении проблемы «человек и общество». И здесь он вступил в спор как с теми писателями, которые стремились доказать полную зависимость человека от житейских обстоятельств («среда заела»), так и с теми, кто пытался показать героя вне связи с бытом и полностью отрицал социальные влияния и воздействия на него. Для Толстого вопросы, какова среда и в зависимости от этого каково ее влияние, а также каков сам по себе человек, склад его характера, каковы его нравственные устои, всегда имели решающее значение. Как художника и философа его постоянно интересовала в одних случаях способность человека легко и бездумно усваивать чужие мнения и обычаи среды, в других — умение отстоять и сохранить свою самобытность, истоки индивидуальной предрасположенности к этому. Толстой прекрасно понимал, что нельзя жить в обществе и быть свободным от общества. Но в то же время он видел, какими тяжелыми последствиями чреват тип существования, избранный Иваном Ильичом. И, более того, он не сомневался в том, что угроза полного и безраздельного подчинения бытующим взглядам и мнениям существует не только в «простой» жизни «обыкновенного» человека. Эту угрозу реально ощущал и он сам, Лев Николаевич Толстой, образ жизни которого так разительно отличался от того, который вели изображенные им герои. И не случайно, конечно, он вновь и вновь возвращался к раздумьям на эту тему, о чем свидетельствуют три записи в его дневнике, сделанные в одном только мае месяце 1910 г. «Не скажу, что забочусь о суждении людей, не скажу, что люблю их, а несомненно и неудержимо произвольно чувствую их, так же как чувствую свое тело, хотя слабее и иначе» (Т, 58,51), — это в записи от 13 мая. А 18 мая он напишет: «Как трудно, а зато как хорошо и радостно жить совершенно независимо от суждений людей, а только перед судом своей совести, перед Богом, иногда испытываю это, и как хорошо!» (Т, 58,53). А спустя два дня выскажется еще более красноречиво: «Господи, помоги мне жить независимо от людского суждения, только перед Тобою, с Тобою и Тобою» (Т, 58,54). Развитие и уточнение этой же мысли находим и на последующих страницах дневника: «Какая слабость, тревога, неопределенность, когда думаешь о мнении людском, и какая свобода, спокойствие, всемогущество когда живешь только для себя перед Ним!» (Т, 58, 60).
Стремясь понять и объяснить природу отчуждения, одиночества человека, столь нередкое отсутствие взаимопонимания между людьми, Толстой размышляет в этой связи как о причинах субъективных, так и объективных. В одном случае он пристально вглядывается во внутренние стимулы и мотивы поведения, заложенные в человеческом характере едва ли не от рождения. В другом — выявляет причины объективного порядка, которые также препятствуют установлению контактов человека с миром и другими людьми. В декабре 1896 г. Толстой сделает следующую запись в своем дневнике: «Чертков говорил, что вокруг нас четыре стены неизвестности: впереди стена будущего, позади стена прошедшего, справа стена неизвестности о том, что совершается там, где меня нет, и 4-я, он говорит, стена неизвестности того, что делается в чужой душе. По-моему, это не так. Три первые стены так. Через них не надо заглядывать. Чем меньше мы будем заглядывать за них, тем лучше. Но 4-я стена неизвестности того, что делается в душах других людей, эту стену мы должны всеми силами разбивать – стремиться к слиянию с душами и других людей. И чем меньше мы будем заглядывать за те три стены, тем больше мы будем сближаться с другими в этом направлении» (Т, 53, 126).
Почти все герои упоминавшихся произведений Толстого так или иначе стремятся «заглянуть» за первые «три стены» «неизвестности». Все они во власти дум и настроении «будущего» (карьера, заботы об увеличении доходов и т. д.), много душевных сил отдается ими воспоминаниям о прошлом, анализу его (где, когда и почему жизнь дала трещину). Немало изобретательности проявляют они и в познании «третьей стены», интереса к тому, «что совершается там», где их нет (сюда можно отнести их повышенную чуткость к общественному мнению и господствующим «приличиям»). А вот «четвертая стена», стремление познать души других людей и сблизиться с ними, почти не интересует их или интересует в очень малой степени (точнее же потребность в этом они начинают ощущать слишком поздно). Отсюда и весьма запоздалое и непоправимое разочарование их в людях, даже самых близких, представление о которых, как выясняется, у них было самое превратное, отсюда и одиночество их — своего рода возмездие за то, что в свое время они то ли не пожелали, то ли не смогли найти единственно верный и столь необходимый путь к душам этих людей.