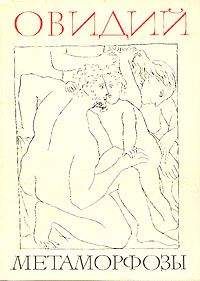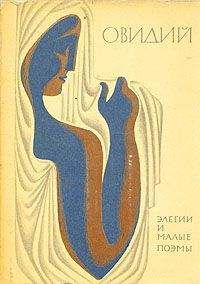Владислав Отрошенко - Тайная история творений
Каким-то непостижимым образом в этой душе соединились два существа, принадлежавшие к разным сферам бытия. Но дух поэзии, который ему заслужил в устах Афанасия Фета имя «одного из величайших лириков, существовавших на земле», был почти неприметен в то время, когда на европейских пространствах от Москвы до Мюнхена, от Петербурга до Турина был известен «его превосходительство Федор Иванович Тютчев», Herr Tuttcheff или даже le baron de Tutchef, как выразился однажды французский газетчик, приписав ему от избытка восхищения баронский титул.
Первый ангел и последняя рукаТютчев не был бароном. Но принадлежал к одному из древнейших дворянских семейств своего отечества. Его пращур, герой Никоновской летописи «хитрый муж Захарий Тутчев», посланий в Золотую Орду к Мамаю с дипломатической миссией, словно предначертал в XIV веке карьерный путь далекого потомка. Потомок появился на свет в Орловской губернии в родовом имении Овстуг 23 ноября 1803 года. Рос под присмотром сердобольного дядьки, мужского воплощения духа Великой Няни Писателей, витавшего над дворянскими усадьбами России. Гуляя однажды с дядькой по роще, он и сотворил свое первое произведение. Его вдохновил главный «враг», показавший ему тогда только свою бледную тень. Но и этого было достаточно. Они нашли в траве Мертвую горлицу. Впечатление было столь сильным, что дядьке Хлопову пришлось покорно участвовать в бережных похоронах птицы, затеянных баричем. Над ее могилой из уст маленького Феди вдруг вырвался стих, эпитафия – пролетел по овстугской роще ангел поэзии, нечаянно призванный на бой с ангелом смерти.
Позже поэзия призывалась уже под воздействием Горация и наблюдением домашнего учителя – Семена Раича, поэта и переводчика античных авторов. Учитель вскоре нашел способности воспитанника столь развитыми, что считал его, по собственному признанию, за равного собеседника и друга. То же самое случилось и с профессорами Московского университета, где Тютчев учился с тринадцати лет.
В восемнадцать – он уже с университетским аттестатом уехал в Петербург. Там поступил на службу в Коллегию иностранных дел. Но в Петербурге в доме своего родственника графа Остермана-Толстого, славного полководца, потерявшего руку в сражении с французами, он не прожил и пяти месяцев. Произошло событие, которое перевернуло его жизнь. Летом 1822 года легкий на подъем граф, отправляясь за границу, посадил в свою карету юношу Тютчева. На козлах устроился неотлучный дядька Хлопов. И в ту минуту, когда экипаж тронулся в путь, юноша и предположить не мог, что он вернется на жительство в Россию уже убеленный сединами, а для своих современников превратится в «почти иностранца». В старости он скажет об одноруком графе: «Судьбе угодно было вооружиться последнею рукою Толстого, чтоб переселить меня на чужбину».
Немецкие АфиныРусское посольство в столице Баварского королевства Мюнхене не нуждалось в сверхштатном чиновнике. Но влияние именитого родственника было достаточным, чтобы при миссии появился «новый атташе г-н Федор Тютчев», как его отрекомендовали в депеше петербургскому начальству, посетовав, что занятий для него найдется мало. Однако шефу МИДа Карлу Нессельроде была обещана сердечная забота о прибывшем чиновнике – «чтобы он не зря потерял время».
Время он не терял. Едва начав посольскую службу в Мюнхене, он закружился в водовороте событий и чувств первой любви. Избранницу звали Амалия. Ей было четырнадцать, когда восемнадцатилетний атташе впервые встретил ее. Очень скоро он увлекся этой красавицей, происходившей из графского рода Лёрхенфельд. Она расцветала на его глазах. И не только он сходил по ней с ума. Был и соперник – секретарь посольства барон Александр Крюденер, метивший в мужья. Тютчеву грозила дуэль с ним, и было не до посольских депеш. А между тем встревоженный дядька Хлопов едва успевал слать свои депеши матушке барина – Екатерине Львовне. И среди прочих жалоб докладывал, что Федя, мол, обменялся с барышней цепочками – отдал ей золотую, а она ему – только шелковую. Амалия вернула «долг» чистым золотом поэзии. Русская литература обязана ей знаменитыми тютчевскими шедеврами «Я помню время золотое» и «Я встретил вас…». С баронессой Амалией Крюденер (она все-таки вышла замуж за соперника) у него было немало встреч на протяжении жизни, но первая, обернувшаяся бурным романом, сроднила его с чужбиной.
Островок отечества, состоявший из икон дядьки Хлопова, его хозяйствования на московский манер и заботливых причитаний на русском, вскоре исчез. Дядька через три года, поехав с барином в отпуск, умер в России. А Тютчев, вернувшись в Мюнхен на службу, женился на баварской аристократке, вдове Элеоноре Петерсон, урожденной графине Ботмер. У нее было три сына от первого брака и она была старше Тютчева на четыре года. Но это была счастливая семья. У них родилось три дочери. Элеонора любила мужа самозабвенно – боготворила своего Теодора, как она называла его. Теодор же блистал в баварской столице, которую просвещенный король Людвиг I превратил, по словам современников, в «немецкие Афины», покровительствуя ученым, философам и писателям. Именно в этом кругу Тютчев снискал себе репутацию умнейшего человека. Русские путешественники, приезжавшие в Мюнхен, немало удивлялись, когда находили второго секретаря посольства (такова была теперь его должность) гуляющим под аркадами Королевского сада со знаменитым философом Фридрихом Шеллингом, который говорил о нем, что «это превосходнейший и очень образованный человек». И еще более удивлялись, когда узнавал и, что квартира Тютчевых на Karolinenplatz – известный в Мюнхене салон, завсегдатай – Генрих Гейне, называющий Тютчева «моим лучшим другом».
Но кем был в это время сам Тютчев? Он переводил на русский стихи Гейне, а заодно и короля Людвига, часами вел философские споры с Шеллингом, покорял своими познаниями филолога Фридриха Триша. Да еще составлял служебные депеши, где положение дел в европейских монархиях иногда рисовал в таких неуместных сказочных выражениях – «злая фея», «благодетельные чары», «пагубное колдовство», – что глава миссии князь Григорий Гагарин не рисковал отправлять в Петербург эти посольские творения, мягко называя их «недостаточно серьезными». О других творениях дипломата не знали ни в «немецких Афинах», ни в русских столицах. Другие творения принадлежали неразличимому существу, которое жило мгновенными озарениями и возносилось туда, где «Мотылька полет незримый…// Слышен в воздухе ночном…// Час тоски невыразимой!…// Все во мне и я во всем!…» И где нужно было иметь особое зрение, чтоб не ослепнуть от увиденных картин: «Когда пробьет последний час природы,// Состав частей разрушится земных:// Все зримое опять покроют воды,// И божий лик изобразится в них!».
«Мадонна Мефистофеля»«К стихам я питаю отвращение, в особенности к своим», – повторял Тютчев. И это не было позой – это было драмой. Он словно мстил горьким презрением ангелу поэзии за минуты содрогания, вызванные стремительными взлетами – «Как бы эфирною струею/1 По жилам небо протекло!» – и столь же стремительными падениями в «утомительные сны», в действительность, где «не дано ничтожной пыли// Дышать божественным огнем». Следы этого дыхания – стихи – он называл «побрякушками» и «ненужными пустяками». И поступал с ними как с хламом. Однажды, вернувшись в Мюнхен из служебной поездки в Грецию, принялся наводить порядок в бумагах и уничтожил «накопившийся ворох» – большую часть «вирш», написанных за десять лет. Это случилось незадолго до того, как о безвестном поэте, живущем в Баварском королевстве, узнал Пушкин, который уже находился на пороге дуэльных событий.
Племянник посла князь Иван Гагарин, мюнхенский друг Тютчева, несколько лет служивший вместе с ним при миссии и одиноко ценивший его поэзию, был удивлен и раздосадован, когда летом 1836 года, вернувшись в Россию, убедился, что имя Тютчева как поэта и здесь пустой звук, хотя стихи его и печатались стараниями друзей в некоторых журналах. В письме он попросил его прислать с оказией рукописи. Безучастие к написанным «виршам», вероятно, взяло бы в Тютчеве верх, если бы не случилась особенная оказия – первая любовь, незабвенная Амалия Крюденер, ехавшая с мужем в Петербург. Она-то и доставила туда рукописи стихов с характерным распоряжением Тютчева: «Делай-с ними, что хотите… они ваша собственность». Гагарин передал их князю Вяземскому. Вскоре зашел к нему в гости и обнаружил, что князь вместе с поэтом Жуковским читает сочинения Тютчева. Оба – в полном восхищении. На следующий же день тютчевские стихи уже читал Пушкин. Очевидцы его реакции утверждают, что он пришел в неописуемый восторг – «носился» с рукописями «целую неделю». В ближайшем номере своего «Современника» Пушкин опубликовал внушительное собрание Произведений Тютчева под заглавием «Стихотворения, присланные из Германии». Публикации за подписью «Ф. Т.» продолжали появляться в знаменитом на всю Россию «Современнике» (даже и после гибели Пушкина. Но происходило нечто удивительное: не происходило ничего. Не было ни критических статей, ни признания публики. Тютчев оставался в России не более известным поэтом, чем в Баварии, где события тем временем развирались в его жизни ярко и катастрофично.