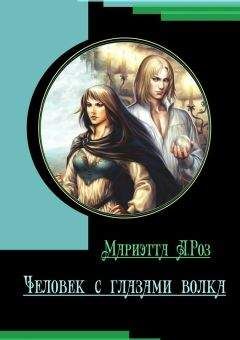Алексей Бердников - Жидков, или о смысле дивных роз, киселе и переживаниях одной человеческой души
Чтоб им доставить пуще огорченье,
Творя разумный, впрочем, произвол,
Не очень полагаясь на Ученье,
Отец опричнину себе завел
И ну князьям придумывать мученье,
И ну, как вшей, у них искать крамол,
Иного только лишь на смех поднимет,
Того повесит, а иного снимет.
Зато порядку было хоть куда -
Почти никто не крал и не крамолил,
В витринах стыли разные блюда,
И сам отец икрою хлебосолил.
Но чуть ему шлея под хвост -- беда!
И написать, и вслух сказать изволил
Такого, что хоть свет в Москве гаси
И мощи из подвалов выноси!
Возьмет и на науку ополчится
Ни за что, ни про что -- а просто так,
И так в своем гоненье отличится,
Что в школах сеет уж не свет, а мрак.
Врачей поизведет. К кому лечиться
Идти? Зато полно печатных благ,
А к Троице и на Преображенье -
Два раза в год всем ценам пониженье.
А с демографьей -- просто рандеву!
Чего-нибудь да уж набеззаконит:
То в Казахстан поселит татарву,
То немчуру вдруг на Урал загонит.
Евреям кинуть повелит Москву
И на Амуре их селиться склонит.
То пишущим заявит: Не дыши!
То "не пиши!" А се "перепиши!"
И переписывают! Где же деться?
Раз ты партеен -- то как раз должен!
Зато -- какое голубое детство!
Какой румянец золотой у жен!
Где на парады эти наглядеться!
Сколь ими созерцатель поражен!
Храм Покрова, поповой моськи старше,
А низом -- тьфу ты, пропасть, -- марши, марши!
Но ежели уж мысль сю продляну,
Могу ли скрыть я от тебя, читатель,
Про мощную народную войну,
Которой был он вождь и зачинатель.
И то сказать вам толком -- в старину
К нам лез столь оголтелый неприятель,
С такою сволочью из разных мест,
Что и не веруешь, а сложишь крест.
Румыны, венгры, итальянцы, немцы,
Испанцы, наше падло, япоши,
Без племени, без роду иноземцы,
Монархи, дуче, фюреры, паши -
И поначалу задали нам бемцы,
Помучили от полноты души.
Пока веков не прекратится замять,
Того народная не вытрет память.
Взревела ревом русская земля,
Не помнившая со времен Батыя
Подобной крестной муки. От Кремля
В ночь уходили воинства святые
И встали вкруг Москвы, костры каля.
Там пали сильные и молодые,
Подрубленные пулями в снегу,
Но стен Москвы не выдали врагу.
И отметая гордости греховной,
За крепостные отойдя зубцы,
К народу русскому воззвал Верховный:
"Вы, братья, сестры, матери, отцы! "
Закляв их связью не духовной, кровной -
Он говорил им: Дети! Вы бойцы
За землю, на которой дрались деды!
Хотите ли вы рабства иль победы?
И криком закричал честной народ:
Победы! Захлебнется враг проклятый!
За нашу землю! За тебя! Вперед!
Будь нашим знаменем! Веди, вожатый! -
И должен здесь заметить наперед,
Он веры той не осрамил крылатой -
И веру ту, где б наш ни пропадал,
Наоборот -- с избытком оправдал.
С собой, как с прочими, суровых правил,
Как все -- недосыпал, недоедал.
Фон Паулюса за Якова не сплавил,
Как Фриц ему поносный предлагал,
И сына зверским мукам предоставил,
Чтоб против нас не вышел генерал,
Плененный в Сталинграде. Военкомом
И деятелем после был весомым.
Хотя холопьев все еще сажал
И не терпел к проектам возраженья, -
Но как при имени его дрожал
Любой, кто был не нашего мышленья!
Уж танки в городе воображал
И достигал такого накаленья,
Что белый китель, трубка и усы
Вздымали мигом надо лбом власы.
Ах, белый китель! Просто дивный китель!
А трубка всклень "герцеговины флор"? -
Но Тетушка сказала: "Не хотите ль
Вы прекратить молоть подобный вздор -
Он самый натуральный обольститель -
В нем гения не видно и в упор.
-- Ну, коль не гений, так вперед, бесславьте!
-- Ах, милый Фрак, отстаньте и оставьте!
Ваш протеже -- упырь. -- Ах, так? Упырь?
Тут на совете мненья разделились:
Кто говорил -- "упырь", а кто -- "пупырь",
И атмосферы крайне накалились.
Грозили пренья разростися вширь,
А языки их просто с ног валились.
А Ольга, сев с Антоном в уголок,
В салфетку собирала узелок.
Вот во что вылился вопрос Антонов:
Успели и Антона отмести!
Меж тем, на Ржевском генерал Антонов
Совсем уж собирался спать идти.
Тут звякнул телефон. Он снял. "Антонов"
-- Послушай, батюшко! -- и ну кряхти! -
Уж утряси, мы б за тебя говели...
Уговори ты этого... Чертвели!.. -
Антонов тут же сел на телефон -
А был двенадцатый уж час как о ночь -
И, услыхав известный миру фон,
-- Иосиф, -- говорит, -- Виссарионыч!
Вас беспокоит старый солдафон,
Готовый к вам бежать на зов без онуч!
Позвольте обратиться! -- и тотчас
Ему был обратиться дан приказ.
Чрез пять минут звонит он тете Рафе
Чтоб ей о выполненье доложить -
Однако до нее -- как до жирафе:
Звонком и не пытайся услужить.
Она глуха. У ней брильянты в шкафе.
Ее уж спать успели положить -
И до Чертвели ей ни -- вдуга -- швили,
Ей даже свет в квартире потушили.
ДЯДЕНЬКА ВЕРХОВНЫЙ
На Спасской бьет три четверти часа,
Луна сменилась дымкой непогожей.
На Спасской бьет три четверти часа,
Торопится домой, в тепло, прохожий.
На Спасской бьет три четверти часа:
Отбой, на погребальный звон похожий!
Щемящий сердце русских эмигрант
Пронзительный, спектральный звук курант!
На тротуаре тень от катафалка -
Минуй, минуй, читатель, эту тень!
На тротуаре тень от катафалка -
Чернильная, как смерть, -- скорей бы день!
На тротуаре тень от катафалка -
Минуй, читатель, дьявольскую тень!
Хоть то, что именую катафалком,
Служебная машина в свете жалком.
Антон выходит с узелком в просвет -
Как бледен он, в каком тоскливом теле!
Садится в адовый кабриолет,
Бесшумно завелись и полетели.
Вот минули бульвар и парапет
И Троицкую башню провертели.
Остановили, вышли из дверец
И входят в отуманенный дворец.
Повсюду сон. Царицыны покои.
Недвижим воздух. Лунный пятачок
Мерцает в спаленке. Но что такое?
Чей там забытый блещет башмачок?
Но мимо! Мимо! Под окном левкои,
Ужли затвора сухонький стучок?
Нет. Показалось. Показался свет, и
Как жар горят на стенах самоцветы.
Смарагды, яхонты и бирюза.
Их блеск невыносим и нереален.
Он, словно дым, ест и слепит глаза.
И вдруг огромный кабинет, завален
Лишь книгами, в нем больше ни аза.
Стол -- площадью, и за столом тем Сталин.
Туманные портреты со стены
Глядят угрюмы, либо смятены.
О, как жестокие воззрились очи
На мальчика! Как жжет их странный взгляд!
На Спасской башне грянуло полночи.
Теперь, должно быть, все в постелях спят.
А ты сиди с узлом и, что есть мочи,
Сноси его пронзающий до пят,
Его нервирующий и саднящий,
Ух, цепенящий взор! Ух, леденящий!
Проходит вечность каторгой души,
И вдруг, как громом, полыхнули своды:
"Что там в салфетке у тебя? Кныши?"
Он отвечал не сразу: "Бутерброды" -
И слышит как бы эхом: "Хороши?"
Нет, там ни то, ни это: там разводы
Лучка в селедочке. С картошкой вслеп
Положен черный бородинский хлеб.
-- А что картофель -- маслицем приправлен? -
Спросил Верховный, пальцы заводя,
И бок селедки, меж ногтями сдавлен,
Исчез в усах народного вождя.
Антон промямлил: "Да уж не отравлен!"
И, на столе в бумагах наследя,
Взглянул на китель в робости духовной.
-- Ешь! Насыщайся! -- говорил Верховный.
-- Я, брат, тут отощал и подустал.
Что, думаешь, из стали, хоть и Сталин!
Некачественный, брат, дают металл,
И пятилетний план почти провален.
Я возразил ему: "А я читал..."
Но увидав, что рот его оскален
В усмешке, счел за благо промолчать.
Он благоволил дальше замечать.
-- Я положеньем дел, брат, не доволен... -
И, выплюнув селедочный хребет,
Смотрел верхи кремлевских колоколен
И восходящий облачный Тибет.
И было видно, как он стар и болен,
Как у него, быть может, диабет,
А может быть -- давленье и подагра,
И как по нем истосковалась Гагра.
-- Пять лет такой работы и каюк! -
Антон пробормотал; "Да кто ж неволит?"
Но тот не слышал, вопросивши вдруг:
Народ ко мне по-прежнему мирволит?
Ах, нет: то не любовь, один испуг!
Едва умру, из гениев уволит.
Теперь и плещут, и кричат виват,
А что как завтра выйду виноват?
Один, один кругом -- кровав и страшен,
Зловещим чудным светом осиян,
Уйду в небытие от этих башен,
Чтобы являться -- Петр и Иоанн!
-- Антон смотрел, пугливо ошарашен, -
Я против Грозного имел изъян:
Умело потрудился я, но мало
Моих бояр я перевел на сало!
И жаль Серго мне! Вот кого мне жаль!
Единодержцев сокрушала жалость,