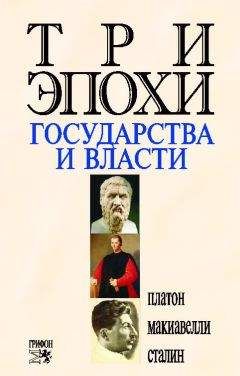Виктор Астафьев - Награда и муки
Викторы, Лихоносов и Потанин, ходят со мной по Вологде, и один все напевает какую-то старинную песенку со странными словами: «Я люблю все живо…», а то возьмется подтрунивать над дружком, и так и этак его тормошит, но ни одной пушинки выбить из него не может. Потанин посмеивается тихо, как-то даже снисходительно и нет-нет да подсадит поднаторевшего по части острот в «высшем свете» дружка, да так уместно, так славно, что тот даже крякнет от удовольствия.
Погода была — хуже не придумать: хлюпал дождь вперемежку со снегом, гололедно было, и Лихоносов шутил все реже, бодрился через силу. Здоровьишко его к такой погоде слишком чутко. Шапка с распущенными ушами совсем взмокла на нем и вроде бы сгорбила его тяжестью своей.
Чтобы сократить дорогу домой, я повел двух Викторов через базар, двери которого здесь простодушно и гостеприимно открыты день и ночь, а с одной стороны их вовсе негу. Шлепали мы по базарным лужам, и вдруг Лихоносов встал как вкопанный, и глаза его, хорошие глаза, как-то сумевшие соединить в себе детскую удивленность и взрослую печаль, возбужденно засияли.
— Ой, что это? — спросил он, показывая на голубые тележки, с которых торгуют в Вологде горячими шаньгами, именуя их по-здешнему — лепешками.
Я выгреб из кармана мелочь, и через минуту мои гости и я вместе с ними уплетали за обе щеки наливные шаньги.
— А с картошкой есть? — спросил Лихоносов. Я купил шанег с картошкой и с творогом, и оба Вити так их здорово ели, что тетка, торговавшая такой продукцией, по-хозяйски умильно воскликнула: «Эко-ко, мужики-то ровно три дня не едали!..»
— Да я уж не помню, когда и ел русские-то шаньги, — отозвался Лихоносов и покачал головой. — От Геленджика до Новосибирска, да и дальше, одни и те же пончики, одни и те же вафли, озеленелая колбаса, недоваренные куры. Нигде ничего не продают местное национальное. Ширпотребные сувениры продают, а съедобного нет!..
Он говорил еще что-то глуховатым, негромким голосом, а я смотрел, как он аппетитно и чисто ест, и чувствовал — был сейчас Витя Лихоносов далеко от Вологды, дома был, у мамы, в сибирской избе на улице Озерной…
И на меня вдруг накатило: середина зимы сорок второго года. Мы, солдатики Новосибирского пехотного полка, уже обмундированные, подготовленные в маршевые роты, ждем отправки на фронт. Но где-то и что-то «не сработало» еще в военной машине, и нас бросили пока в Искитимский район «на хлеб».
Уроженец Саянской тайги и гор, я впервые видел совершенно новую Сибирь, ровную, степную, с реденькой щеточкой березняков вдали. Над снегами, над шипящей летучей поземкой шумели бесконечно, желто и трагично неубранные хлеба. «Где же наш пахарь? Чего еще ждет?..» Пахари на войне, хлеб осыпался, и только серая ость да желтая мякина тучей кружились и пылили над белыми полями.
Осенью часть хлебов была скошена, но копны остались под снегом. Мы разгребали их, на своедельных волокушах тащили к комбайну. Там наши же солдатики, вчерашние крестьяне, молотили полуобсыпавшиеся колосья.
Горел костер из хвороста, тонких березок и соломы. Огромный солдат Коля Рындин, родом из Каратузского района Красноярского края, загнув противень из железа, жарил на нем пшеницу и, горячую, хрустящую, горстями засыпал в широкущий рот, где зубы росли как у щуки — рядами и вразбивку. Хруст разносился такой, будто рабочая лошадь в стойле крушила жесткий корм. Дома Коля за один присест съедал ковригу хлеба, две кринки молока и чугунок картошки. Он раньше всех отощал на харчах запасников и последние два месяца из вечера в вечер рассказывал, как он, будучи в гостях у тетки, не доел, дурак такой, сковороду картошки, жаренной с мясом. Его уж бить пробовали, чтоб не дразнился, но Коля не унимался, и день ото дня рассказ его становился все пробористей, аж в животах у солдат ныло от этого повествования.
Отъевшись в зерносовхозе харчами и пшеницей, Коля тут же начал выполнять работу за половину взвода и посмеивался над бойкими на язык, но неуклюжими, суетливыми в крестьянском деле, мелкосортными горожанами, которые впятером ковыряли копешку, как сытый Коля когда-то ковырял у тетки жареную картошку на сковороде. Коля как подденет на вилы копну, как шуранет ее на плечо и без всяких волокуш к комбайну прет, да еще и кричит что-то раздольное, дурашливое…
Колю Рындина свалило под Сталинградом в первом же бою. Какого истового, какого могучего крестьянина потеряла наша земля!
Глядя, с каким наслаждением гости мои ели домодельные шаньги, я невольно вдруг вспомнил о Коле Рындине и рассказал двум Витям о том, как тяжело было богатырю русскому жить впроголодь и как оглушительно хрумстел он подгорелой пшеницей. И как все мы хотели, чтобы никто больше не знал голода, унижающего человека, выматывающего силы его.
Не развеселились Викторы от моего рассказа, а ссутулились еще больше один от усталости, другой — по вековечной привычке русских скромников выглядеть как можно «незаметнее».
За плечами их, невольно сутулящимися, уже не одна, не две книги, которые дали критике оправданную возможность толковать, что боль за человека, готовность и способность стать на его защиту, внутреннее соучастие и сострадание, а также «вкрадчивое очарование, женственная мягкость», доброта и безмерная любовь к малой родине, без которой нет и не может быть любви к большой, характерные, объединяющие их работу черты.
Но только ли для них они характерны?
Не та ли это пуповина, через которую питалось и питается вдохновение всякого истинно русского, истинно искреннего таланта?
Тогда, в Вологде, не было у меня таких мыслей. Просто «стронулось» мое ретивое, воспоминания заворочались, и все я пытался сделать непостижимое вообразить этих парней в ту грозную и тяжелую военную пору.
И выходили у меня маленькие, беззащитные ребятишки, чего-то постоянно ожидающие. Хлеба, конечно. Чего же еще ждали тогда дети! Хлеба, человеческой теплоты и победы, а там уж папка вернется, много хлеба привезет, а может быть, и сахару…
Вижу рыженького деревенского парнишку. Сверкая запятниками пимов, тащит он беремя дров, ухает поленья с громом у печки, подметает пол, заправляет лампу керосином, чтобы, когда мама-учительница придет из школы, усталая и промерзшая до изнеможения, сказала бы ему: «Помощник ты мой…»
Второй Витя видится кучерявеньким, круглоглазым, в чистой рубашке, в штанишках с лямочками и карманчиком. Он прижался лицом к окошку, расплющив нос о стекло, смотрит на кривощековскую улицу Озерную, ожидая с работы маму с папкой, и напевает: «Я люблю все живо…»
Конечно же, не знал он тогда этой песни, и вообще ему не до песен было, есть ему хотелось, как и всем малышам военной поры, но почему-то так вот и видится: Кривощеково в густом морозном пару, за рекой — мерцающие настороженно и слепо огни Новосибирска, звездно сгущенные там, где огромный завод «Сибсельмаш», на котором доведется Лихоносову начать свой трудовой путь.
По кривощековской малолюдной улице, скрипя мерзлыми ботинками, бежит домой женщина, прижав к груди сверточек с хлебом. Это о ней впоследствии напишет ее единственный сын, родная кровинка: «Мать у меня не строгая, но я слушался ее во всем, невольно старался, чтобы молодое горе ее заплыло хотя бы маленькой гордостью за единственного сына. Я благодарен ей за внушенное мне широкое отношение к жизни и людям, и писательское восприятие у меня от нее».
Как мне хотелось бы, чтобы все читающие Лихоносова и особенно пишущие о нем повнимательней прочли эту фразу: «И писательское восприятие у меня от нее». Это избавило бы многих критиков от ненужных домыслов, натужных догадок и тривиальных рассуждений. Сказано — как вырублено. И кабы эти слова были относимы лишь к Лихоносову! А не у всех ли нас восприятие «от нее», от матери?
«Каки сами, таки сани», — любят говорить в Сибири, а по другому случаю еще шутят: «Свинья не родит бобра, а все того же поросенка».
Грубовато, конечно, по-сибирски топорно, коробит слух. Ну, чтобы смягчить нашу чалдонскую корявость, напомню изящных французов: «Ищите женщину!»
И найдете, уверяю вас. И это объяснит многое, почти все объяснит.
Отец, Иван Лихоносов, погиб на войне. Одна из многих русских женщин подняла одного из многих осиротевших парней, и не просто подняла, а, будучи жительницей рабочей окраины, так точно и с такой печальной любовью, описанной в повести «На долгую память», сумела каким-то образом выучить свое чадо и наделить совершенно естественной интеллигентностью, сохранив при этом в парне сибирское упрямство, настойчивость и творческий напор в труде нашем, названном одним моим другом шахтерским, — качества, совершенно необходимые и бесценные.
Из ранних вещей Лихоносова я больше всего люблю «Тоску-кручину», угадывая в главном герое некоторые черты характера самого автора, я вижу, как нелегко, порой до крика больно давалась ему, «маменькиному сынку», самостоятельность, эта самая настойчивость и стремление на все смотреть чистыми глазами, а коли глаза — зеркало души, значит, и душу сохранить чистой, незапятнанной. Мне кажется, эта повесть — большая личная победа автора над собой и обстоятельствами, которые, конечно же, были и будут в жизни нисколько не похожи на те красочные картинки, каковые изображаются в школьных учебниках.