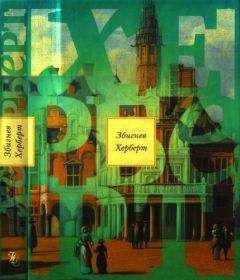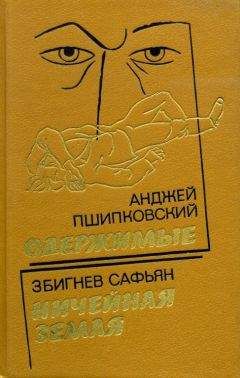Збигнев Херберт - Варвар в саду
Пейзаж сухой, как утрамбованный земляной ток. Ни деревца, ни травинки, лишь голые прутья засек да хилые цветки военных значков. С левой и с правой стороны фрески на вершинах двух холмов скудная архитектура замков. Левый — это Монте Масси, кастелян которого взбунтовался против Сиены. Гвидо Риччо сокрушит эти стены и разрушит башни, в этом нет никаких сомнений.
В Зале Мира находится написанная между 1336 и 1339 годом «Аллегория Доброго и Дурного Правления» Амброджо Лоренцетти, самая большая (по площади) средневековая фреска, посвященная мирским проблемам. Амброджо (у него был брат Пьетро, тоже прекрасный художник; они оба умерли от чумы) был третьим после Дуччо и Мартини великим сиенским живописцем Треченто. Я знаю, что фреской этой положено восхищаться, но освещение скверное, краски поблекли, а Дурное Правление практически утратило четкость. Потрясение я испытал, проглядывая книжку Энцо Карли о сиенских примитивах. На бледное непосредственное эстетическое впечатление наложилось новое, результат работы фотографа. Поучительная история, сбивающая гордыню.
Уже позже я не без гордости прочитал, что достоинства фрески «Доброе и Дурное Правление» спорны. Беренсон (рьяный союзник Флоренции, а значит, гвельф) морщит нос и говорит, что тема переросла автора, что художник оказался совершенно не способен выразить свою идею средствами живописи и потому вынужден был воспользоваться надписями, то есть недостойными истинного мастера вспомогательными средствами. Энцо Карли (главный реставратор в Сиене, а значит, по убеждениям гибеллин) защищает произведение, подчеркивая его исторические и композиционные достоинства. Героем фрески является не человек и даже не город, а цивилизация; живописная summa[26] и одновременно эпос. Так что нет ничего страшного, что произведение это стало добычей научных муравьев. В разливе исторических, философских, иконографических истолкований тонут его эстетические достоинства.
Фреска полна замечательных подробностей: наклонная крыша, крытая плитками сланцевого шифера, растворенное окно, разделенное пополам тенью. В окне клетка со щеглом и голова любопытной служанки. Чистые, ясно определенные цвета от песочной умбры через жаркий кармин, бронзу до теплой черноты глубоких интерьеров. Массивный городской пейзаж, прямо-таки фантасмагорический благодаря заливающему его свету, переходит в сельский ландшафт, впервые написанный так широко и с такой ласковой заботой о мелочах. При этом пространство Лоренцетти строит совершенно по-новому. Это не золотой абстрактный воздух Дуччо и не рациональная перспектива Джотто. Лоренцетти, как совершенно справедливо заметил один из эстетиков, вводит картографическую перспективу. Зритель не стоит неподвижно на одном месте, он видит все дальние планы одинаково ясно и подробно, охватывает широким взором орла теплую, волнистую материю земли.
Выйдя на лестницу, я машинально зашел в зал, именуемый Монументальным. Очень верное название, поскольку стены его испакощены кичем à la Хенрик Семирадский{94}, представляющим Виктора Эммануила{95} в разных позах. Официальная живопись XIX века всюду одинаково чудовищна. Скорей на воздух.
Солнце бросает длинные тени. Закат придает огненности кирпичным домам. На главной улице виа ди Читта вершится ежедневный обряд — passeggiata[27].
Если я скажу, что горожане прогуливаются, это не объяснит ничего. В каждом итальянском городе есть такая улица, которую вечером заполняет толпа жителей, час-другой прохаживающихся на небольшом пространстве туда и обратно. Смахивает это на репетицию статистов в какой-то чудовищной опере. Те, что постарше, демонстрируют свою витальность и подтверждают дипломы встречных: «Buona sera, dottore». — «Виопа sera, avvocato»[28]. Девушки и юноши гуляют отдельно. Объясняются только взглядами, оттого глаза становятся большими, черными и выразительными; они декламируют любовные сонеты, мечут пламя, жалуются, проклинают.
В Сиену я приехал из Неаполя, откуда привез склонность к пицце. Блюдо это великолепно сочетается с вином. В сущности говоря, пицца — это лепешка, на которую положены нарезанные помидоры и лук, филе анчоусов, черные оливки. Разновидностей у нее множество — от изысканной «каприциоза» до «популярной», которая печется на большом листе и продается порциями.
Я съел две таких порции и заказал третью. Хозяйка маленькой траттории явно растрогана. Говорит, что я «gentile»[29]. Потом спрашивает про мою национальность и, узнав, что я поляк, восклицаете нескрываемым энтузиазмом: «Браво!» Вызывает в качестве свидетелей этого исторического события заспанного мужа и толстую дочку. Все они согласно утверждают, что поляки «molto gentile e inteligentti»[30]. Еще минута, и мне придется сплясать «збойницкий»[31] и спеть что-нибудь исключительно народное. Неожиданно хозяйка задает вопрос, разрешены ли в Польше разводы. Я вру, что нет, и тут же меня заливает волна восторгов.
Над площадью Кампо luna plena[32]. Формы сгущаются. Между небом и землей напряженная струна. Такая минута создает пронзительное ощущение застывшей вечности. Смолкнут голоса. Воздух превратится в стекло. И мы все окажемся увековечены: я, подносящий к губам бокал с вином, девушка в окне, поправляющая волосы, старичок, продающий под фонарем почтовые открытки, а также площадь с ратушей и Сиена. Земля будет кружить со мной, ничтожным экспонатом космического музея восковых фигур, в который никто не заглядывает.
2
Только сейчас я узнал, кем в действительности был Дуччо, этот таинственный художник, точной даты рождения которого никто не может назвать, а достоверно о нем известно лишь то, что умер он в зените славы и обремененный долгами. Главное его произведение «Маэста» отправлено на реставрацию. Словно перед золотым витражом, стою в Музее дел’Опера дель Дуомо перед панно из тридцати шести небольших картин, которые были in verso[33] «Маэсты». Зал не очень большой и темноватый, однако в нем бьет источник света. Сияние, излучаемое этим произведением, до того необыкновенно, что даже если бы его поместили в подвал, оно светилось бы, как звезда.
Дуччо был старше Джотто, но разница в возрасте этих двух мастеров, глядя на произведения которых мы испытываем ощущение, будто их разделяют века, не была даже разницей между двумя поколениями. Оба, вероятней всего, учились у Чимабуэ{96}. Три огромных Мадонны в галерее Уффици — Чимабуэ, Дуччо и Джотто — являются, несмотря на все различия, тяжелыми, зрелыми плодами византийского древа. Карьеры обоих вероятных коллег были диаметрально отличны, как отличны были их темпераменты. Предприимчивый Джотто снует между Римом, Ассизи, Падуей и Флоренцией. Дуччо не покидает родного города. Первого прекрасно можно представить себе в простонародной таверне, где он большими глотками пьет красное вино и разрывает жирное мясо толстыми пальцами, в которых еще несколько минут назад он держал кисть, рисуя нимбы над головами святых. Второй, щуплый, аскетичный, в поношенном плаще, ходит на долгие прогулки, чаще всего на север, в маленькую сиенскую пустыню, населенную сухими, как стружки, отшельниками.
Только в бесполых учебниках истории искусств оба этих мастера трактуются одинаково. Критик с определившимися вкусами вынужден выбирать. Беренсон исключительно верно называет Дуччо последним великим художником древности. «Его старики являются последними потомками по прямой линии александрийских философов, ангелы — римские гении и богини победы, а дьявол — это силен». Американский ученый совершенно справедливо подчеркивает дар драматической композиции сиенского мастера. «Предательство Иуды»: «На переднем плане неподвижная фигура Христа. Его обнимает худой, юркий Иуда… их окружают сомкнутым кругом воины. Одновременно слева буян св. Петр атакует одного из стражников, остальные ученики разбегаются врассыпную». Добавим, что над головами убегающих апостолов разверстая расщелина в скале, подобная черной молнии. Дуччо заставляет расчувствоваться даже камни. Картина слагается из двух больших масс, имеющих определенный композиционный и драматический смысл. Не может быть такого, чтобы кто-то не понял происходящей сцены.
Невзирая на декоративные достоинства, великолепную живописную материю и глубину идеи этого христианского Софокла, на взгляд Беренсона, Дуччо не заслуживает пометки «гений». В отношении ни одного другого мастера не проявляется так ярко выработанный в девятнадцатом веке вкус этого американского флорентийца и узость его эстетических критериев. Беренсон требовал от искусства, чтобы оно возглашало хвалу жизни и материальному миру. Он хотел, чтобы ария пелась торжественно, и попросту не замечал тонких модуляций. Беренсон ценил осязаемые ценности, экспрессию форм, движение и хвалил мастеров, у которых замечал новую концепцию объема. Потому Джотто он ставил выше Дуччо. Сейчас, не без помощи (да, да, именно так) современного искусства, мы склонны скорректировать эту оценку.