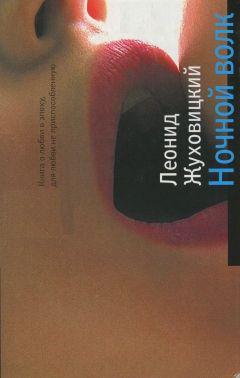Леонид Жуховицкий - Банан за чуткость
«А Мишка?» — вспомнил я и оглянулся. Мишка все стоял у входа в «Голубой Дунай».
Павел сказал:
— Главное, черт их знает, сколько их тут. Вон, — он кивнул в Мишкину сторону, — тоже небось из ихней шатни. Высматривает, гад!..
Толстая баба, с мешком в руках, наблюдавшая с крыльца за развитием событий, глянула на Мишку с некоторым беспокойством. Я сказал:
— Нет, это не ихний.
Плотник, небритый, с маленькими хитрыми глазками, рассказывал:
— Гляжу, бежит этот шпингалет вертлявый. Ну, уж я ему и сообразил! Как я ему…
И показал, как дал шпингалету пинка и тот метра три пахал землю носом.
Через пыльную площадь и дальше, по темным улицам, мы вели Кабана в милицию. Сзади шел Мишка — и с нами, и не с нами. Потом к нему присоединилась толстая баба с мешком под мышкой — любопытство все‑таки взяло в ней верх над осторожностью.
Сперва Кабан держался уверенно, то и дело вызывающе вскидывая голову:
— Ну, пошли, пошли! Ведите! Ну?!
Но когда мы перешли железнодорожную линию, сбавил тон и уже довольно растерянно кричал плотнику:
— А чего ты руку выкручиваешь?
А еще шагов через пятьсот он уже взвыл плачущим голосом:
— Ну чего вы мне зазря дело шьете? Что я, крал? Крал? Ну, выпил, поскандалил. Так ведь мне ж тоже в морду дали!
— Я тебе, мерзавец, покажу «зазря»! — возмутился седой железнодорожник. — Ты у меня пять лет получишь! Мер‑за–вец!
— Ведь два месяца как срок отбыл… Жена у меня…
— Вот и надо ее от такого мерзавца избавить.
Тогда Кабан сел на землю и визгливо, без слов заплакал. Он плакал, как трус, — его не было жалко. Мы молча ждали, когда он кончит.
Вдруг Павел кивнул на Мишку, одиноко стоявшего в стороне:
— А этот тип все же из ихней шатии!
Я ответил:
— Да нет, я его знаю.
Мы все‑таки дотащили Кабана до милиции.
Дежурный — молоденький белобрысый лейтенант с очень серьезными бровями — провел нас в большую комнату, слабо освещенную маленькой лампочкой. Мы уселись на двух деревянных диванах. Кабана посадили сбоку на стул. Мишка, опустив голову, встал у двери. Толстая баба в свидетели идти отказалась и осталась на улице дожидаться новых известий.
Допрашивал нас капитан — маленький человек с интеллигентным лицом и тихим, вежливым голосом. Лейтенант с серьезными бровями писал протокол.
Пока капитан говорил с нами, Кабан то матерился, то плакал, то клялся, что ни в чем не виноват.
Капитан сказал:
— Кабанов, ведите себя как следует.
Тот не унимался. Капитан обернулся к лейтенанту:
— Запишите в протокол насчет нецензурных выражений.
Седой железнодорожник, глядя на Кабана, в который раз повторял:
— Мерзавец! Я сорок лет проработал, чужой копейки не взял!
— А ему можно ругаться, да? — закричал Кабан. — И его в протокол запишите!
Конечно, это был непорядок. Мы успокаивали железнодорожника, но он упрямо повторял:
— Мер‑за–вец!
Капитан сказал Кабану:
— Вполне естественная реакция на ваш поступок.
Последним из свидетелей допрашивали Мишку. Он сидел под самой лампочкой, спиной ко мне. На вопросы отвечал почти шепотом, я не слышал ни слова. Вдруг капитан удивленно вскинул голову:
— Ну а вы?
Я не слышал, что ответил Мишка, я видел только, как быстро потеет его затылок и наливаются краской уши. Протокол он подписал не читая.
На станцию мы шли совсем ночью по каким‑то проулкам, мимо сараев, мимо длинных железнодорожных складов.
Павел возбужденно говорил:
— Заведется пяток таких — и все село в страхе держат. Бить их надо!
Мишка шел сзади совсем один. Даже толстая баба теперь, когда опасность миновала, присоединилась к нашей компании.
На станции мы распрощались — руку жали так, что потом долго чувствовалось.
Мы с Мишкой сели в один вагон, но за всю дорогу не обменялись ни словом. Лишь перед самым городом Мишка вдруг сказал:
— Я думал, не стоило еще с третьим связываться — только хуже разозлятся. Наверняка у них ножи…
Я ответил:
— Черт их знает!
Я боялся, что Мишка будет еще что‑нибудь говорить, оправдываться. Поэтому, как только вышли с вокзала, сказал:
— Ну, пока.
И хоть домой нам было по пути, мы разошлись в разные стороны.
БАЛЛАДА О МОЛОДОМ СПЕЦИАЛИСТЕ
Молодой специалист кончает Смоленский медицинский институт. На распределении ему предлагают четыре области и два края. Он выбирает Алтай.
Молодой специалист немало знает о целине. Он кое-что слышал и о красотах Горного Алтая, но не это определяет его выбор. Просто в Алтайский край получили назначение несколько его соучеников, а молодой специалист рос в деревне и по деревенской привычке решает держаться поближе к своим. Он еще не представляет реально это «поближе» на Алтае, где 300 километров не расстояние.
Молодой специалист проездом останавливается в Москве. Он компостирует билет и идет в город. Он ходит по Третьяковке, несколько подавленный непостижимым количеством великих подлинников, даже стеклом не отделенных от грешного мира. В ГУМе он основательно рассматривает нужные вещи из одежды и по хозяйству, но покупает лишь дешевые и прочные башмаки на осень, потому что денег у молодого специалиста пока что в обрез.
Потом он садится в поезд и четверо суток едет по России — не близко Барнаул.
В крайздраве молодой специалист получает назначение в участковую больницу. Больница маленькая, место глухое — назначение считается едва ли не самым плохим, и многие от него отказываются, выдвигая убедительные причины. У молодого специалиста причин нет, и он послушно расписывается там, где заведующий отделом кадров крайздрава ставит галочку карандашом.
В коридоре крайздрава на него натыкается корреспондент местного радио, который ищет романтика для воскресной передачи. По всем бумажным данным молодой специалист в романтики, пожалуй бы, и годился, но уж слишком он невпечатляющ на вид: роста небольшого, сложения окромного, взгляд мягкий, а главное, в голосе ни малейших следов воли и решимости. И корреспондент делает вид, будто подошел к молодому специалисту лишь затем, чтобы пожелать ему счастливого пути.
После этого молодой специалист гуляет по жаркому Барнаулу, долго ищет дешевую столовую, сочувственно смотрит на негустую пропыленную зелень и почти физически ощущает, как далек Барнаул и от родной Белоруссии, и от Смоленского мединститута, и от огромной Москвы. Но в то же время он уже чувствует себя подданным крайздрава и понимает, что Барнаул теперь для него не даль, а центр.
Вечером молодой специалист садится в поезд и к утру приезжает в Бийск. Здесь пересаживается на автобус и через несколько часов попадает в Горно–Алтайск, или попросту Горный. Горный невелик (трехэтажные здания выделяются) и послушно вытянут по ущелью. Куда речушка, туда и он. После Барнаула он кажется маленьким. Но и Горный — центр, и даже областной — столица Горно–Алтайской автономной области. Здесь с молодым специалистом заключают джентльменское соглашение о том, что через год его заберут из участковой больницы в областную, ибо год работы там вполне можно засчитывать за три.
На следующий день молодой специалист попутным больничным «газиком» выезжает из Горного. Он смотрит, как Чуйский тракт меняет асфальт на гудрон, а гудрон на гравий; смотрит на быструю игру Катуни внизу; смотрит на косматые кедры Семмнского перевала, могучие и диковатые после стройных, с солнечным отливом сосен. Ночует в Онгудае — большой алтайской деревне.
Вечером, укладываясь спать, он оглядывает восьмикоечную комнату дома приезжих и принимается мечтать о маленькой, аккуратной, белоснежной больничке, о заботливых, послушных санитарках, о трудном случае, внезапном озарении и счастливом исходе, о благодарных пациентах и т. д. Мечта эта не оригинальна, она очень напоминает соответствующие кинофильмы. Но он далек от искусства и не знает, что в вопросах мечты считается дурным тоном столь буквально следовать разработкам специалистов.
Утром молодой специалист едет дальше. Он снова смотрит по сторонам и все больше удивляется, причем удивляется разному: то красоте ущелий, то сусликам, перебегающим тракт у самых колес. Он пьет воду из придорожных ручьев, любуется снежной полоской водопада. Потом он видит странный населенный пункт, состоящий из саманного дома с плоской крышей, железной бочки и большого, в пол человеческого роста почтового ящика, стоящего прямо на земле. Он видит, как через безлюдную Курайскую степь неторопливо бежит собака, мохнатая, как овца. Кругом пусто, и непонятно, откуда она бежит и куда.
Теперь тракт висит над пропастью, а над трактом висят огромные валуны, и молодой специалист невольно прикидывает, что будет, если такая вот глыба стронется и, захватывая по пути камни поменьше, рухнет на беспомощную, почти что картонную перед ней крышу «газика». В узком месте машина нагоняет отару. Свернуть некуда, и молодой специалист минут десять глядит, как подрагивают перед самым капотом овечьи зады. Наконец овец сгоняет в сторону одноногий чабан–алтаец. Он ловко сидит на лошади, а за спиной у него целится в небо костыль, похожий на ружье.