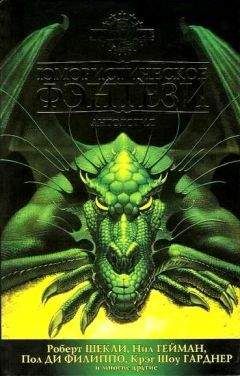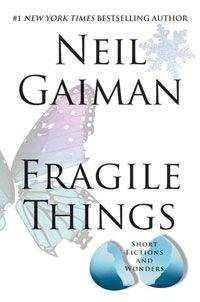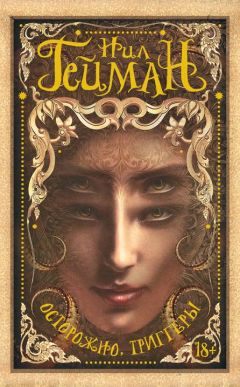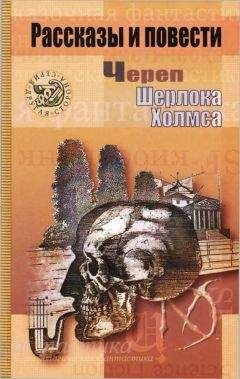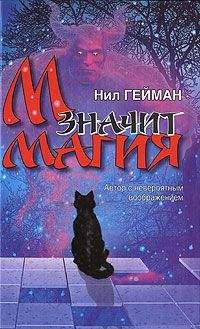Нил Гейман - Вид с дешевых мест (сборник)
А тем временем под голубым китом Жерар Биар, выпускающий редактор «Шарли Эбдо», заканчивает свою речь.
– Дорасти до настоящего гражданина, – напоминает он нам, – значит понять, что некоторые идеи, слова, картинки могут оказаться шокирующими. Оказаться шокированным – часть нормальных демократических дебатов. А вот оказаться застреленным – нет.
Впервые опубликовано в «Нью Стейтсмен» 27 мая 2015 года, под названием «Говорить то, что словами не скажешь». Этот выпуск мы с Амандой Палмер редактировали на гостевой основе.
Что это вообще, к [очень скверное слово], такое – детская книга? (Лекция памяти Зены Сазерленд)Надеюсь, никто из вас не пришел сюда за ответами. Давно уже известно, что писатели очень плохо отвечают на вопросы.
Нет, вообще-то это не так.
Мы не то чтобы плохо умеем отвечать. На самом деле мы все время отвечаем и отвечаем – просто наши ответы обычно оказываются недостоверными, пристрастными, бессистемными и чересчур образными. Это можно расценить как серьезный недостаток – в том случае, если вы собирались как-то воспользоваться нашими ответами в жизни. Но если зайти с другой стороны – со стороны вопроса, – то недостаток превратится в достоинство. Писатели очень здорово задают вопросы. И вопросы у них, как правило, получаются очень определенными и недвусмысленными.
Когда я пишу, в голове у меня нет ответов. Я пишу, чтобы понять, что я думаю о том или ином вопросе. «Американских богов» я написал, потому что прожил в Америке почти десять лет и решил, что пора понять, что я обо всем этом думаю.
А «Коралину» я написал потому, что еще ребенком задумывался, что будет, если вот я приду, скажем, домой, а мои родители вдруг взяли и переехали, ни слова мне не сказав.
(Такое вполне могло случиться. У них из головы иногда что-то просто выпадало. Люди они были занятые. Как-то вечером они забыли забрать меня из школы и приехали только после того, как часам к десяти вечера им оттуда позвонили и тоскливо спросили, должны ли они сегодня оставить меня у себя. А однажды утром предки, наоборот, закинули меня в школу, как-то не заметив, что уже начались каникулы. Я бы, наверно, долго бродил по пустому зданию с запертыми классами, если бы меня не спас садовник. Так что переезд без предупреждения был, конечно, маловероятным событием, но не вовсе невозможным.)
А если бы родители переехали куда-то еще, а вместо них въехали какие-то другие люди, выглядящие точь-в-точь как они? Как бы я их отличил? И что бы стал делать? И что, интересно, на самом деле скрывается за таинственной дверью в дальнем конце гостиной, обшитой дубом, – за той самой дверью, если открыть которую, увидишь одни кирпичи?
Я пишу истории, чтобы выяснить, что я думаю о всяких вещах.
И эту речь я пишу тоже для того, чтобы понять, что я думаю.
И вот что я хочу знать: что такое на самом деле детская книжка? Или, если точнее: что это вообще, к [очень скверное слово], такое – детская книга?
В моем родном городке была крошечная частная школа, куда я ходил всего год. Мне было восемь. Однажды кто-то из мальчишек пришел в школу со спертым у отца журналом, в котором были голые леди, и мы стали его смотреть, чтобы выяснить, как выглядят леди, когда они голые. Не помню, как именно выглядели конкретно эти голые леди, зато помню сопровождавшие картинки маленькие биографии: одна из дам была ассистенткой фокусника, и я подумал, что это просто грандиозно. Мы, как все нормальные дети, были любопытны.
Весной того же года мальчишки, которых я встречал каждый день по дороге из школы домой, рассказали мне грязный анекдот. В нем было одно скверное слово. Думаю, я не преувеличу, если скажу, что в нем было целое настоящее скверное слово. Анекдот вышел не слишком смешной, но определенно грязный. На следующее утро я рассказал его паре школьных приятелей, надеясь, что они сочтут его смешным или, в крайнем случае, меня – очень умудренным жизнью.
Один из них тем же вечером пересказал его маме. Этого мальчика я больше никогда не видел. Родители забрали его из школы – из-за моего анекдота! Он даже попрощаться не зашел.
На следующее утро меня допрашивали директриса и главная попечительница школы, которая только что ее купила и была твердо намерена выжать из заведения всю прибыль до последней капли, прежде чем продать на следующий год застройщику.
Про анекдот я уже благополучно забыл. Дамы с пристрастием выясняли, знаю ли я какие-нибудь слова «из четырех букв», и хотя раньше я с подобной терминологией никогда не сталкивался, вокабуляр у меня был реально огромный. Поскольку учителя часто спрашивают у восьмилеток нечто подобное, я принялся старательно перечислять им все известные мне слова из четырех букв, пока мне не велели заткнуться и не принялись расспрашивать взамен о грубых шутках, о том, где я их слышал и кому конкретно потом повторял.
Вечером после школы маму тоже вызвали на разговор. Вернувшись домой, она мне сказала, что ей сказали, будто я сказал нечто настолько ужасное, настолько отвратительное, что ни директриса, ни попечительница были просто не в состоянии это повторить. Так что это было?
Я испугался отвечать и поэтому прошептал ей слово на ухо.
Я сказал fuck.
– Ты никогда больше не должен такого говорить, никогда, – твердо сказала мама. – Это самое худшее, что вообще можно сказать.
Еще я узнал, что меня бы непременно в тот же вечер исключили из этой маленькой школы (крайняя мера наказания), но поскольку того, другого мальчика родители уже эвакуировали из сего кипящего горнила копрологических беззаконий, попечительница с сожалением констатировала, что потерять две платы за обучение кряду она не готова. Так кара меня миновала.
Из этого происшествия я вынес два важных урока.
Первый – что к вопросу аудитории нужно подходить чрезвычайно избирательно.
И второй – что слова имеют силу.
Дети составляют в социуме относительно бессильное меньшинство и, как все угнетенные люди, знают о своих угнетателях гораздо больше, чем угнетатели – о них. Информация – это валюта, а информация, помогающая расшифровать язык, мотивы и поведение оккупационных сил, от которых напрямую зависят ваши еда, тепло и счастье, – это самая ценная информация, какая только есть на свете.
Детей до крайности интересует поведение взрослых. Они хотят понять нас.
Однако их интерес к поведению некоторых отдельно взятых взрослых ограничен. Слишком часто оно оказывается отталкивающим или глупым. Пьяницей на тротуаре интересоваться, конечно, можно, но не стоит: это такой сегмент мира, быть частью которого вы все равно не хотите, поэтому лучше смотреть в другую сторону.
Дети вообще мастерски умеют смотреть в другую сторону.
Не думаю, что мне очень нравилось быть ребенком. Детство – это было что-то такое, что нужно вынести, перетерпеть, а не получать от этого удовольствие. Пятнадцатилетняя каторга в мире, куда менее интересном, чем тот, который населяла другая, взрослая раса.
Детство я провел, стараясь узнать о взрослых все, что только можно. Мне было ужасно интересно, как они сами видят детей и детство. У родителей на полке стоял актерский экземпляр одной пьесы, под названием «Счастливейшие дни твоей жизни». Она была про школу для девочек, которую в годы войны эвакуировали в школу для мальчиков, и про то, как весело было дальше.
По пьесе был поставлен любительский спектакль, и папа играл в нем школьного привратника. Он-то мне и сказал, что «счастливейшие дни твоей жизни» – это школьные годы.
Мне тогда показалось, что это полная чушь. Я даже заподозрил, что это либо злостная пропаганда со стороны взрослых, либо – более вероятно – доказательство того, что большинство взрослых вообще не помнят, как были детьми.
Для справки: не думаю, что ненавидел в жизни хоть что-нибудь так долго и так же крепко, как школу: непредсказуемую жестокость, собственное бессилие и бессмысленность многого из того, что в ней происходило. И даже то, что я жил преимущественно в собственном мире, постоянно упуская всю ту информацию, которую каким-то образом получали в школе все остальные, в общем-то не сильно помогало.
В первый день учебного года я чувствовал себя больным и несчастным, в последний – в полной эйфории. Так что по мне, «счастливейшие дни твоей жизни» были одной из тех сакраментальных вещей, которые взрослые постоянно говорят, хотя даже сами в них не верят. Что-нибудь вроде «больно совсем не будет» – а это правдой не оказывалось просто никогда.
Мой способ защититься от взрослого мира состоял в том, чтобы читать все, что только можно. Я читал все, что оказывалось перед глазами, независимо от того, понимал я это или нет.
Я бежал от реальности. Разумеется, бежал! И еще К. С. Льюис мудро заметил, что единственные, кто протестует против побегов, – это тюремщики. Но я учился, смотрел чужими глазами, пробовал чужие точки зрения. Я развивал эмпатию, и постепенно до меня доходило, что все эти разные воплощения «я» в литературе, которые не были мной, тем не менее совершенно реальны и готовы поделиться со мной мудростью и опытом, любезно разрешая учиться на их ошибках. И я знал тогда, как знаю и сейчас, что событиям не обязательно случаться в реальности, чтобы быть истинными и настоящими.