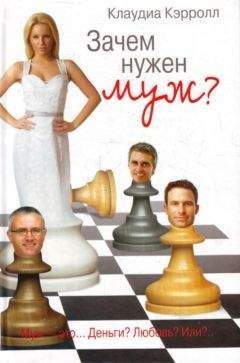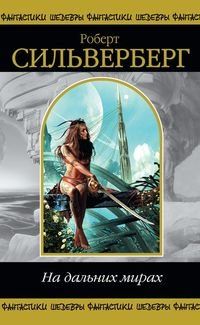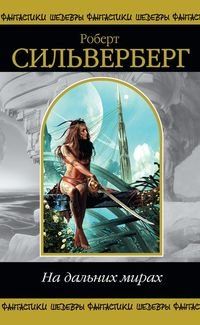Лев Аннинский - Красный век. Эпоха и ее поэты. В 2 книгах
Вечный тайный перегляд реальности с нереальностью. В каком-нибудь «случайном» эпиграфе из философа («Лежишь во гробе, празднуешь субботу»). В шутливой мистификации: «Лежу со свечкой восковой в руке…» В пронзительной мольбе (ко Всевышнему?):
Сшей мне саван из клочьев дыма,
У дороги похорони,
Чтоб всю смерть пролетали мимо
Эшелонов ночных огни.
«Вся смерть» маскируется под «всю жизнь»…
Лейтмотивы межировской лирики сплошь пронизаны чувством зазеркальной ирреальности — и это при поразительной, «голографической» чёткости письма.
Главная декоративная оппозиция, воздвигшаяся на том месте, где леденела синявинская вода и трескался ладожский лёд, — снег. Снег, покрывающий город, снег, разъезженный в грязь. Иногда Межиров печатает эти стихи встык: «Тишайший снегопад» и «Прощание со снегом». Снег вообще проба души. Психологически сюжет разрешается так: даже «в объятьях юга» душа не может оттаять, дышит «сибирской вьюгой». Но ещё существенней этого конкретного диагноза общая клиническая картина: именно тогда, когда наступает умиротворение, и воцаряется чистота, и снежный покров, подобно «коту в пуховых сапогах», окутывает столицу, — фактура домов и дворов вдруг исчезает, а остаются только очертания… Возникает совершенно мистическое ощущение безмолвных контуров на месте жизни. Ложный мир в роли истинного. Истинный — в роли ложного. Это — тайная мелодия межировской лиры.
И такое же чувство сквозной скрытой подмены — в самых громких, празднично-ярких его стихах.
Здесь лейтмотив — аттракцион.
«Стена вертикальная снится, рога мотоцикла кривые». Цирк, спорт, бега. Клоунада, игрушки, иллюзион. «Наш номер ложный? Ну и что ж!» Герой — сын акробатки, по совместительству — завлитчастью. А в глубине души — всё тот же «мотоциклист на цирковой арене у публики случайной на виду».
Разумеется, не надо искать в «Балладе о цирке» биографические подробности из жизни автора: там действует опять-таки двойник, или, как любит говорить Межиров: Alterego.
Татьяна Бек сформулировала это так: «Путь Межирова-поэта причудлив и драматичен, однако музыка этого пути — едина. Межиров — поэт головокружительной и всею жизнью оплаченной игры. Тоталитарной несвободе он противопоставляет не прямую семантику бунта, но несмысловое и высокомерное вольнолюбие ритма, метра, интонации…».
«Тоталитарную несвободу» вряд ли стоит подкладывать поэту, не знавшему такого термина, когда он шел на эту «несвободу» умирать, а вот насчет музыки и причудливости — замечательно верно. Фактура мистифицирована — музыка неподдельна. Музыка сигналит о поддельности фактуры.
Всё обманно в мире «буратин, матрешек и петрушек». Пустота, вакуум в щелях и паузах между блестящими номерами. «Свистящие повороты — всё вхолостую, впустую, зря». Как это связать с ознобом метели? А вот «смуть» и связывает. Как под элегической горизонталью тишайшего снегопада то ли жилье прячется, то ли ледяная хлябь непросыхающего болота, так в «зигзагах и вертикалях» мотогонок таится или гибель, или шанс выжить, но это выживание — ежемгновенная готовность к гибели.
«Быть может, номера у нас и ложные, но всё же мы работаем без лонжи, упал — пропал, костей не соберешь…»
В переводе на конъюнктурный язык это означает: «сказать неправду лучше, чем другие». Лгун? Вовсе нет: правда-то всё равно невыразима. Она — «вовеки непереводима», как непереводима оригинальная поэзия, верная родному языку. Отсюда — лейтмотив ненадежности всего того, что выявляется и говорится: всё это «трын-трава и трали-вали». Мутное стекло, за которым в лучшем случае — «очертания вещей». А если не мутное стекло, то цветные стеклышки. Разъятое бытие. В переводе на лепет родных осин — бормотуха. Поэтому надежнее всего — молчать. «Всё сказанное мной гроша не стоит — в цене лишь то, о чём я умолчал».
Меж тем сказано иной раз так, что стих пробивает громаду лет. Причём, неожиданно.
Затем ли бился Магомет в падучей,
Чтобы теперь какой-нибудь нахал
Святые суры на удобный случай
Для красного словца приберегал?
Невозможно поверить, что это написано чуть не полвека назад. Тогда по либеральным временам стало можно «заигрывать с религией», и вот сценка: среди ресторанной пьянки какой-то враль принялся болтать, что он любит Коран как поэзию (а Евангелие — как этюды о нравственности? — хочется добавить); сидящая в той ресторанной компании черкешенка заметила, что нахал мелет языком попусту, поднялась и ушла. «Пустынно стало. Обезлюдел зал», — завершает Межиров картинку.
Десятилетия пройдут, арабские самоубийцы протаранят двухбашенную цитадель американской мечты, карикатура на пророка будет оплачена в мусульманских странах погромами европейских посольств, — тогда мимоходная «проговорка» поэта насчет пустоты, таящейся в празднословии, набухнет кровью. Не потому, что поэт угадывает события, как провидец, а потому, что поэт чует вибрацию жизни и смерти на пограничной черте между пустяком и истиной.
Сказано же было: «И через всю страну струна натянутая трепетала». А если струна от перенапряжения лопнет? Что останется?
Был хмельным и бездомным
Гражданином страны
Со своим незаёмным
Дребезжаньем струны…
Дребезжанье — ещё одна ложная нота, отвлекающая от настоящей музыки? Но ведь незаёмная!
Где тут хмель и где трезвость? Где дом, где бездомье? Или что-то среднее: окоп? А может, кювет?
Бликует реальность, музыка распадается на отдельные ноты, вино приобретает привкус бормотухи, когда не поймёшь, что «вовне», что «внутри». Где прямое зеркало, где кривое. Где плюс, где минус. Где друзья, где враги.
«Наощупь находишь друга, чтобы расправиться с ним как с врагом». «Любимый враг! Спасибо за подмогу! Ты оказался другом. Слава богу».
Не это ли предчувствовалось в войну? «Артиллерия бьет по своим…»
Что же в итоге? Дорога оказалась немыслимо далека. И теперь не угадаешь, что за поворотом. Хватит!
«Набродился. Дорогами сыт! И теперь, вызывая удушье, комом в горле пространство стоит».
Пространство-то преодолимо: расстояние от России до Америки, оказывается, короче, чем от бессмыслицы к смыслу. Где длинно, где коротко — не разобрать.
«Путь к бессмертью длинней и короче…»
Это в философской неразрешимости. А в конкретной жизни? А в конкретной стране? А в России?
«А в России метели и сон и задача на век, а не на день. Был ли мальчик? — вопрос не решен. Нос потерянный так и не найден».
Опять литературная тайнопись: знатоки, конечно же, вспомнят маиора Ковалёва, чей нос так ловко упрятан Гоголем, или горьковского Борю Варавку, булькнувшего в полынью на глазах онемевшего Клима Самгина. На мой же слух «был ли мальчик?» — вопль к тому мальчику, что жил на окраине города Колпино, к тем мальчикам, что остались в синявинских окопах 1941 года.
Что же всё-таки в итоге? Бред полураспада, фиксируемый мастером полутонов? «Полу…» — еще один межировский лейтмотив. Полуариец полупьяный… Полузнанья, полумеры, полутьма… Полуженщина-полуребёнок… В этой симфонии половинок полустанок звучит элегией, полуподвал — эпитафией, а уж полублоковская вьюга — прямо-таки реквиемом.
И, наконец, ещё один шедевр: потерянно-пророческий плач по Семёну Гудзенко:
Полумужчины, полудети,
На фронт ушедшие из школ…
Да мы и не жили на свете, —
Наш возраст в силу не вошёл.
Лишь первую о жизни фразу
Успели занести в тетрадь, —
С войны вернулись мы и сразу
Заторопились умирать.
А кому не «посчастливилось» умереть тогда, тот обречён всю жизнь тосковать по смерти. Сколько кукушка накукует, столько и тосковать. Четыре десятилетия или четыре года — без разницы. Мудро или наивно без разницы. По истине или по душе — без разницы.
В звёздный час когда-то почувствовал:
Через четыре года
Сорок два
Исполнится — и станет голова
Белым-бела как свет высоких истин…
Мне этот возраст мудрый ненавистен, —
Назад хочу — туда, где я, слепой,
Без интереса к истине блуждаю
И на широкой площади
С толпой
Державно и беспомощно рыдаю.
Мальчик оборачивается на Державу. Он еще увидит ее распад. Через тридцать лет после того, как почувствовал, что без интереса к истине Державу не спасти. Останется только беспомощно рыдать. И бормотать, что был слеп. Так и вышло.
«Бормотуха» — последняя книга Межирова, изданная в Советском Союзе. Подписана в печать летом 1990. Тоже памятник эпохи: сиротский полумерный формат, полулюбительская вёрстка. Тираж, отпечатанный в Туле, еще по-советски велик: 48600 экземпляров — но высчитан уже с рыночной скрупулёзностью.