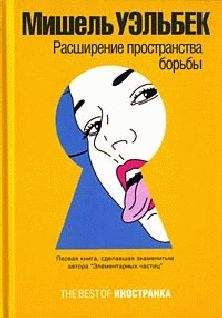Мишель Уэльбек - Человечество, стадия 2
В этих условиях роман, не в силах вырваться из удушающих тисков бихевиоризма, в конечном счете хватается за последнюю, единственную спасительную соломинку — “письмо” (на этом этапе слово “стиль” выходит из употребления: оно не столь внушительно, в нем не хватает тайны). Короче говоря, одно дело серьезная наука, познание, реальность, а другое — литература с ее бесцельностью, изяществом, игрой форм; это лишь производство “текстов”, игрушечных вещичек, которые надо комментировать с помощью всяких приставок (“пара-”, “мета-”, “интер-”). Говорить о содержании этих текстов неразумно, неприлично, а то и опасно.
Картина довольно-таки грустная. Лично я никогда не мог без сердечной боли наблюдать, какую безудержную оргию приемов закатывает какой-нибудь “формалист из “Минюи” ради столь ничтожного результата. Мне помогали выстоять слова Шопенгауэра, которые я не устаю себе повторять: “Первое, и практически единственное условие хорошего стиля — это когда человеку есть что сказать”. Фраза характерно резкая, и потому выручает.
Когда, например, в литературной беседе начинает звучать слово “письмо”, сразу понимаешь, что можно слегка расслабиться. Оглядеться вокруг, заказать еще пива.
При чем тут поэзия? На первый взгляд ни при чем. Наоборот, на первый взгляд кажется, что поэзия еще сильнее отравлена дурацкой идеей, что литература — это работа над языком с целью производства некоего письма. Отягчающим обстоятельством служит то, что поэзия особенно зависима от формальных условий (например, прозаик Жорж Перек сумел вырасти в большого писателя, несмотря на УЛИПО,[26] но я не знаю ни одного поэта, который бы устоял перед леттризмом). Стоит, однако, заметить, что исчезновение персонажа поэзию никак не затронуло; что поэзия никогда не была ареной философских споров, как, впрочем, и любых других. Тем самым она сохраняет в целости значительную часть своих возможностей — естественно, при условии, что согласится их использовать.
Интересно, что ты, говоря обо мне, помянул Кристиана Бобена, пусть даже только затем, чтобы подчеркнуть различия между мной и этим обаятельным идолопоклонником (впрочем, меня в нем раздражает не столько восхищение “смиренными тварями в мире, созданном Господом”, сколько то, что он все время словно восхищается собственным восхищением). Ты бы мог спуститься еще на пару ступенек в ужас и кошмар и помянуть нечто по имени Коэльо. Я не собираюсь уклоняться от подобных малоприятных сравнений, они лишь необходимое следствие моего выбора: пробудить спящие силы поэтического слова. Потому что если поэзию сегодня так легко обвинить в метафизике или мистицизме, стоит ей попытаться заговорить об окружающем мире, то лишь по одной простой причине: между механистичным редукционизмом и тем вздором, какой несут философы нью-эйдж, больше ничего нет. Вообще ничего. Разительный интеллектуальный вакуум, выжженная земля.
Двадцатый век останется в истории еще и как парадоксальная эпоха, когда физики отвергли материализм, отказались от локального детерминизма, одним словом, отбросили целиком ту онтологию объектов и свойств, которая в то же самое время получила распространение у широкой публики и считалась главным элементом научного видения мира. В том же девятом (на редкость содержательном) номере “Мастерской романа” упоминается такая притягательная фигура, как Мишель Лакруа. Я внимательно прочел и перечел его последнюю работу “Идеология нью-эйдж”. И пришел к четкому выводу: у него нет шансов выйти победителем из затеянного им спора. New Age — это ответ на невыносимые страдания, порожденные распадом общества, она изначально выступала за развитие новых способов коммуникации, предлагала эффективные пути к улучшению жизни, и Лакруа прав, утверждая, что ее потенциал неизмеримо больше, чем нам кажется. Прав он и в том, что философия нью-эйдж отнюдь не сводится к перепеву каких-то старых врак: в самом деле, она первая додумалась поставить себе на службу последние достижения научной мысли (изучение глобальных систем, несводимых к сумме их элементов, демонстрация квантовой неразделимости). Однако, вместо того чтобы вести наступление на этом поле, где философия нью-эйдж в конечном счете уязвима: ведь все эти открытия в не меньшей степени совместимы как с онтологией в духе Бома, так и с откровенным позитивизмом), Мишель Лакруа ограничивается трогательными жалобами и ребяческими заверениями в своей преданности идеям инаковости, наследию греческой и иудео — христианской культур. Не из такого теста нужны аргументы, чтобы выстоять против бульдозера холистики.
Но и сам я ничуть не лучше. Это-то меня и удручает: в интеллектуальном плане я чувствую себя неспособным продвинуться дальше. И все-таки интуитивно я чувствую, что поэзия еще сыграет свою роль; быть может, станет чем-то вроде химической первоосновы. Поэзия предшествует не только роману, она — прямая предшественница философии. Если Платон оставляет поэтов за стенами своего знаменитого государства, то только потому, что уже не нуждается в них (и потому, что, сделавшись бесполезными, они не преминут стать опасными). В сущности, я пишу стихи, наверно, главным образом затем, чтобы обратить внимание на чудовищный, глобальный дефицит: его можно рассматривать как дефицит эмоций, социальных связей, религии, метафизики — любой из этих подходов будет верным. А еще, наверно, потому, что поэзия — единственный способ выразить этот дефицит в чистом виде, в зародыше; и выразить одновременно каждый из дополнительных его аспектов. И еще для того, чтобы оставить по себе следующее лаконичное послание: “В середине девяностых годов XX века некто остро ощутил, как рождается чудовищный, глобальный дефицит; он был неспособен ясно и четко осмыслить этот феномен, однако, в качестве свидетельства своей некомпетентности, оставил нам несколько стихотворений”.
К вопросу о педофилии[27]
В том, как вы ставите вопросы, чувствуется тонкая подначка: вы подталкиваете к политически некорректным высказываниям, — наверно, из-за того, что делаете упор на сексуальных импульсах, которыми якобы пронизано все детство; я по этому пути не пойду. На самом деле никаких сексуальных импульсов в детстве нет; это чистейшей воды выдумка. Во всех уголовных делах, которые так охотно смакуют СМИ, ребенок — всегда жертва, целиком и полностью. Тем не менее в этом назойливом внимании к педофилии и инцесту есть что-то успокоительное; мне кажется, что педофил — это идеальный козел отпущения для общества, которое делает все, чтобы разжечь желание, но не дает никаких средств его удовлетворить. В каком-то смысле это нормально (вся реклама, да и экономика в целом, основаны на желании, а не на его удовлетворении); и все же, по-моему, небесполезно напомнить очевидную истину: сейчас состояние дел в сексуальном хозяйстве таково, что мужчина зрелого возраста хочет совокупляться, но уже не имеет такой возможности; по сути, у него даже нет на это права. Стоит ли удивляться, что он хватается за единственное существо, неспособное дать ему отпор, — ребенка?
Идеальный педофил — это мужчина пятидесяти двух лет, лысый и с брюшком. Он работает в отделе сбыта прогорающей фирмы и обычно живет в пригороде, в жутком спальном районе; у него нет никакого чувства ритма. Он двадцать семь лет состоит в браке со своей сверстницей; он католик, исправно посещает церковь и пользуется уважением соседей. Его сексуальная жизнь отнюдь не бьет ключом.
На первых порах педофил открывает для себя порнографию и превращается в ее усердного потребителя; тем самым он изрядно усугубляет свои муки, одновременно снижая покупательную способность семьи. Проституция приносит ему облегчение лишь в весьма ограниченных пределах; камень преткновения для него — ослабленная, короткая эрекция: он хоть и платит деньги, но побаивается презрения проститутки. В принципе он не зря боится женщин; зато он знает, что с ребенком ему бояться нечего. Он сам хотел бы быть ребенком.
Ребенок — существо невинное, в самом деле невинное, он живет в идеальном мире, мире, еще не знающем сексуальности (и кстати, еще не знающем денег). Ему недолго там жить (всего несколько лет), но пока он этого не ведает. Его любят родители, и он действительно достоин любви. Взрослых он считает доброжелательными и мудрыми. Он ошибается.
Встреча этих двоих, педофила и ребенка (один — самый счастливый в мире, потому что еще не познал желания; другой — самый несчастный в мире, потому что познал желание, но не может его утолить), создает условия для полноценной мелодрамы. В итоге их противостояния ребенок будет раз и навсегда испачкан грязью. У него украдут те самые несколько лет невинности, мира до секса. Педофил, со своей стороны, опустится еще на много витков вниз по спирали отвращения к самому себе. Он будет радоваться аресту и тюрьме как подтверждению своих предчувствий: да, он — самое чудовищное и самое нелепое существо в мире. Он старый, грязный, у него уродская душонка — и к тому же он даже не писатель. Он первый потребует, чтобы его кастрировали. Он наконец понял то, что знали все вокруг: когда перестаешь быть желанным, теряешь право желать. Он очень дорого заплатит за свою ошибку. Долгие годы его будут опускать, избивать и унижать другие заключенные. Даже в тюрьме он будет последним изгоем (убийцу, дикого зверя, за то и уважают; но чтобы связаться с ребенком, как верно полагают его сокамерники, надо быть совсем уж ничтожным трусом).