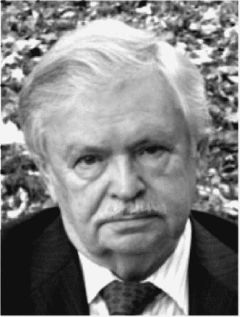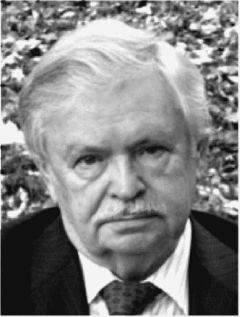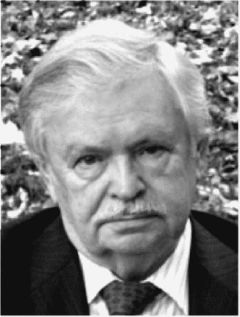Лев Котюков - Черная молния вечности (сборник)
Мне поставят памятник
На селе.
Буду я и каменный —
Навеселе.
Проглядели, черт возьми! А может, сбило с толку то, что Рубцов, не в пример злостно тунеядствующему Бродскому, работал в горячем цехе Кировского завода. Да он всю жизнь с малых лет работал, а не срывал «цветы удовольствия» и не порхал по райским, хмельным кущам певчей птахой, как ныне почему-то кое-кому кое-где кажется. Нет, не годилась его кандидатура в Нобелевские лауреаты, – и иной объект выбрали всевидящие демоны и бесы на сию роль. А жаль! Жаль, что Рубцов, как и Набоков, не пополнил ряды русских писателей под сенью Нобелевских лавр.
Грешен, но дорвавшись до Набокова в годы обморочного развала и катастроф, я поначалу недооценил писателя. Можно сказать, почти разочаровался. Уж больно много материальных вещей и вещичек перегружали его прозу. Какая-то сверхизбыточная любовь к предметам. И усталое, злое, бессмысленное презрение к человеку. И к самому себе в первую очередь. Да, да, именно к себе! Тайное, всепоглощающее, страшное презрение. Кто-то со мной не согласится, но я и не собираюсь ничего доказывать – и даже не советую перечитать повнимательней Набокова. Я не советчик и не антисоветчик! Я просто очень жалею Набокова.
Страшен человек, ненавидящий других, но во сто крат страшней человек, презирающий самого себя. Чтобы возлюбить ближнего и Господа, надо хоть чуть-чуть возлюбить самого себя, ибо самопрезрение есть смерть Господней любви в человеке.
Тяжко возлюбить человечество и порой невподъем просто человека. Но надо! Ну хотя бы за то, что человек создает материальные вещи, которые можно обращать любовью в нематериальные, то есть одухотворять любовью.
Одухотворение вещей есть малосильное стремление стать Богочеловеком. Нет, скорее Человекобогом. Но им Набоков, к счастью, не стал и не мог стать. И, может быть, за это презирал сам себя, а чтобы не было совсем скучно, обрекал на презрение весь мир Божий, лежащий во зле не по воле Божьей. И так ли все-таки безумно зло?! Ибо сказано: «Хочешь быть мудрым в мире сем, будь безумным!»Теперь-то я понимаю, что несправедливо придирался к писателю, был зашорен воспоминаниями и россказнями о его непомерной гордыне. Конечно, великолепный Набоков был фрондер. И позволял, именно позволял себе фрондерство до конца дней своих. Но с гордыней он был в более сложных и страшных отношениях, чем нам, негордым, представляется. А любовь к предметам томила его не из-за презрения к человеку, а из-за разлучения с отчей землей, с языком отчим, с унижением земли и слова русского.
И сдается мне, что цеплялся он за предметы, как за якоря земного притяжения, дабы не сгинуть в чернодырье обессловленной пустоты космополитизма. Но опущу ради краткости изложения свои скромные размышления о Набокове, я же ведь вспоминаю, как нам с Рубцовым не удалось в свое время прочитать Набокова.
И вообще не зря сказано: скромность украшает скромного человека.
А происходило наше непрочтение в 1966 году, или чуть позже. И Набоков был жив, здоров, исправно писал, и книги его исправно выходили на Западе, – и, наверное, весьма и весьма бы удивился, проведай, что в пыльной хрущобной Москве, в бедном общежитском застолье не всуе поминается его имя. А может, и порадовался бы без удивления – и, как знать, глядишь, и подвигся бы на посещение мрачной родины, а может, и на последнее возвращение.
И напрасно некий удачливый подражатель Набокова, нынешний литературный воротила, однажды уверял меня, что до массового растиражирования своих писательских опытов ведущими советскими издательствами не был знаком с прозой великого скитальца и даже был притесняем и гоним. Гоним, наверное, для массового издания в «Советском писателе» и «Лениздате» за непрочтение Набокова. Всем бы такое притеснение и гонение!
Да и совершенно не верится, что такой просвященный и породистый человек, как Андрей Битов, не имел доступа к запретным текстам. Если ж и у нас, сиволапых, имя Набокова было на слуху, то ему сам Бог повелел.
И можно было бы закончить на сем эпизод с воспоминаниями о непрочитанном Набокове, если бы не случайное прочтение грациозного эссе неувядаемой Беллы Ахмадулиной под небезынтересным заглавием «Робкий путь к Набокову».
Ох, как тяжко выдохнуть: поэт – это не женщина, а женщина – это не поэт!
Но, в порядке исключения, я к Ахмадулиной относился и отношусь очень хорошо, почти влюбленно. Но радуюсь, что она ко мне никак не относится, и надеюсь на свое дальнейшее пребывание в неизвестности для этой высокоутвержденной и высокопоставленной дамы.
Но уж больно резанула меня такая продыхновенная фразочка:
«…Новехонькая полночь явилась и миновала – и самое время оказаться в Париже шестьдесят пятого, по-моему, года. Ни за что не быть бы мне там, если бы не настойчивое поручительство Твардовского, всегда милостивого ко мне. (Знал, знал царедворный пан Твардовский, к кому надо быть милостивым!). Его спрашивали о „Новом мире“, Суркова – об арестованном Синявском и Даниэле, меня – о московской погоде и о Булате Окуджаве, Вознесенского окружал яркий успех.
…Синявский и Даниэль обретались – сказано где, Горбаневская еще не выходила с детьми к Лобному месту, я потягивала алое вино».Впечатляющая картина возникает, очень впечатляющая. Почему-то не упомянут отбывающий ссылку Иосиф Бродский, но, сами понимаете, – Париж, «яркий успех, алое вино».
М-да, лихо гоняли по заморским далям страдальцев-шестидесятников злобные коммунистические партвласти.
Далее поэтесса описывает встречу с писательницей русского зарубежья, эмигранткой первой волны Аллой Головиной. Ох, уж это цитирование! Как оно утомительно, да и неинтересно, в конце концов! Но продолжу с тяжким сердцем:
«„А вы, – неуверенно, боясь задеть меня, спросила Алла Сергеевна, – знаете ли вы Набокова, о Набокове? Ведь он, кажется, запрещен в России?“
Этот экзамен дался мне несколько легче: я уже имела начальные основания стать пронзенной бабочкой в коллекции обожающих жертв и гордо сносить избранническую участь. За это перед прощанием Алла Сергеевна подарила мне дорогую для нее „Весну в Фиальте“. Прежде я не читала этой книги, не держала ее в руках, пограничный досмотр мной не интересовался, и долго светила мне эта запретная фиалковская „Весна“ в суровых сумерках московских зим».
Счастливый человек Белла Ахмадулина! Почему-то не интересовался ею пограничный досмотр, – и запретный Набоков спокойно проследовал в СССР, дабы скрашивать угрюмые сумерки Москвы. Воистину счастливый человек Ахмадулина Белла! Хоть ей светило что-то…
Эх, жизнь наша непутевая! И почему саднит душу гениальное: «Жизнь моя, иль ты приснилась мне?!» Но кому-то всё-таки светит и светит.
А вот другим и встарь, и ныне, ничего не дано, кроме света звезды полей. Других упорно отрубали от русской культуры, выдворяя из стен жалкого общежития Литинститута не в Париж, а в бездомные, смертельные морозные ночи России. И не какие-то мифические масоны-мусюны сие творили, а властолюбивые русаки со знаком ячества типа Твардовского, Суркова и Софронова с Прокофьевым.
По их благорасположению надувались мыльные пузыри славы Евтушенко, Вознесенского, Окуджавы и прочих второстепенных литераторов. Это они стояли у истоков подмен, не страшась пламени адского в государственной мерзости атеизма и чужебесия.
Ахмадулина наверняка не ведала, чьей разменной картой она была в сей страшной игре – и бессознательно жила чужой игрой, как своей жизнью.
А впрочем?! Да нет, не ведала. И вообще – от красивой женщины не надо ничего требовать, кроме красоты. Даже талантливых стихов. Красивая женщина и без стихов есть истинная поэзия. И плюньте в лицо тупице, с пафосом изрекающему тысячелетнюю глупость:
«…Сократ мне друг, но истина дороже!»
Не может быть дороже истинного друга и человека никакая самая высокая истина. И бессмертно великое молчание Христа на безнадежный вопрос Пилата:
«Что есть истина?»О, полночные танцплощадки моей юности! О, щемящее, медленно-жгучее танго из таинственных глубин Останкинского парка! О, как неудержимо влекло туда из душного общежития!
В зеленую поющую тьму, в ревнивое световое кружение.
Вперед! Без оглядки! И ничего не жаль – ни разорванных рубах, ни разбитых губ!..
И ничего не страшно, и плевать на подлые ножи, и на свистки милицейские!
К чертям – весенние заботы студенческие! К чертям – черновики с неверными строчками!
Жизнь – это любовь и музыка! Вперед, в вечность! А время пусть подождет!
И въявь вижу грустную улыбку Рубцова. Он отстает от нас, сворачивает к пивной возле платформы Останкино – и, прежде чем исчезнуть в ее смрадных недрах, кричит что-то ободряющее вослед.
А с танцплощадки навстречу нам летит в теплую тьму мелодия и слова:«Под небом Парижа, под небом Парижа в вечерний час!..»
Увидеть Париж – и умереть! Какой красивый слоган. Увидели, но не умерли.
А Рубцову оставалось всего пять лет на всё про всё на этом свете. Но никто, кроме него, не ведал об этом. Но, быть может, сам Рубцов отказывался верить своим тяжким предчувствиям, ведь еще не было написано: «Я умру в крещенские морозы…».