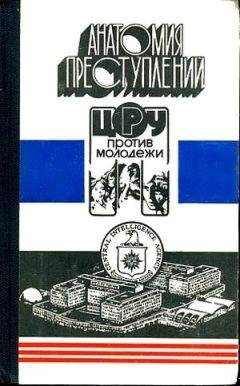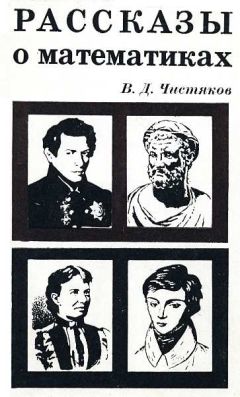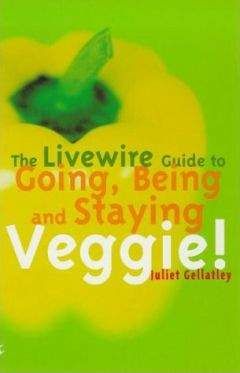Франсуаза Саган - Страницы моей жизни
Чтобы уберечь меня от новой неудачи, мой издатель, я думаю – то есть хочу так думать, – воспротивился эксперименту, казавшемуся мне изысканным и отважным, а ему – смехотворным и опасным с финансовой точки зрения. В результате я опять повесила на шею моей «Грозы» шарфик с именем Саган и до сих пор не знаю, ожидал ли искусно загримированную Дюпон такой же успех, как Саган.
Итак, в 1981 году вышла «Женщина в гриме». Но во Франции в то время происходили другие события, в большей степени привлекавшие внимание людей, нежели мои шедевры. Однажды, в дождливое июньское воскресенье, на выборах победили левые.
Я познакомилась с Франсуа Миттераном намного раньше у Пьера Лазарефа, когда была еще замужем за Ги Шёллером. Тогда мы едва обменялись несколькими словами. В 1980 году я снова столкнулась с ним на юго-западе страны в здании аэропорта (мы оба родом из тех мест); это был маленький аэропорт Тарба или Байона, не помню точно. В 1980 году, во всяком случае, Миттеран находился в полном одиночестве. Моруа и Рокар в касках и сапогах объезжали шахты без него, а коммунисты свирепо рычали ему вслед, почти так же свирепо, как правые. Короче, Миттеран был один в том аэропорту, и, поздоровавшись на земле, мы сели рядом в самолете. Я совершила очаровательное путешествие с умным, обладающим прекрасным чувством юмора человеком, которого во время полета я пригласила к себе на чай, если у него найдется время. Он не показался мне ни одиноким, ни разочарованным, ни удрученным происходящими событиями, и это мне понравилось. Я всегда любила людей, которые хорошо держатся в стане врагов.
Итак, он навестил меня, и мы пили чай. Я жила тогда на улице Алезиа в доме, где сдавались студии, моя огромная и ласковая овчарка встретила его радостно, что свидетельствовало в пользу гостя. Мы говорили обо всем, кроме политики, и такая форма общения вскоре стала привычной. Речь зашла о смерти – мы оба знали, что такое быть на волосок от нее: он целую ночь ожидал, что его расстреляют на рассвете, а я – более прозаично – всю ночь в больнице была убеждена, что больна неизлечимым раком и на следующее утро меня будут оперировать! Следовательно, каждый из нас прожил целую ночь в полной уверенности, что смерть неминуема, и у нас обоих сохранилось одинаковое воспоминание о животном страхе в бунтующем теле и о любопытстве, смешанном с удивлением в душе. А также о новом ощущении собственной кожи, голубизны своих вен и ровного, безостановочного и обманчивого пульсирования крови у запястья. Реакции наши были почти сходными, и в какой-то мере мы почувствовали себя людьми одной породы, ведь не так часто нам встречались те, кто близко видел смерть, свою безучастную смерть.
Как и все его сторонники, я помню 1981 год, улицы под проливным дождем и крики «браво», а также лица людей, сияющие от радости. Помню и скорбные, злые мины на некоторых светских приемах. Помню первый телефонный звонок из канцелярии президента и его появление в моем доме, – как всегда, он был один, в легком сером костюме, поскольку погода стояла прекрасная. Вспоминаю наш первый завтрак и то, как это событие взбудоражило и привело в восторг моих домочадцев, как соседи были ошеломлены, столкнувшись с ним в холле, и как полицейские выстроились у его машины, когда он вышел. Он был единственным президентом республики, – единственным из тех, кого я знала лично (хотя таковых было мало, очень мало, но все же… мелкие сошки о таком и не мечтали), – итак, единственным государственным деятелем, кто не требовал уступить ему дорогу по сигналу клаксона и обгонял другие машины лишь в случае крайней необходимости. Обычно он говорил: «Не было причины выбираться из пробки». Я помню завтраки, во время которых мы говорили обо всем. Помню о поездке в Колумбию, где мне пришлось бы умереть из-за разорванной плевры, если бы он немедленно не отправил меня самолетом на родину. Помню, как моя собака опрокинула бокал с красным вином ему на галстук в тот день, когда он собирался на заседание Совета министров, и как я окунула этот галстук в белое вино, чтобы через полчаса вынуть его безупречным. Что и получилось – к моему великому облегчению и огромному удивлению президента. Я вспоминаю о стольких вещах… и, несмотря на гадости и мерзости, написанные о Миттеране после его смерти, я, безоглядно смелая, по-прежнему вижу его – в сером костюме, улыбающегося – на пороге своего дома. Вижу также и лица французов на улицах или на дорогах в день его похорон. Он был государственным деятелем, истинно государственным человеком, сильным и таинственным, внушающим доверие и недоступным. Это была замечательная личность, откликающаяся к тому же на несчастье или счастье ближнего. Я бесконечно грущу о нем и никогда не переставала грустить. Что бы ни говорили те, кто покинул его после многих лет сотрудничества.
Помимо прочего, у нас была общая черта: непостоянство, со временем переходящее в преданность; и если этот парадокс кому-то покажется надуманным, найдутся все же люди, которые поймут его.
Вернемся же к моей «Грозе». Историю рассказывает в 1875 году глубокий старик, стоящий на краю могилы и вспоминающий свою жизнь. В 1834 году он, нотариус, был безумно влюблен в прекрасную Флору де Маргеласс, вернувшуюся из Англии, куда ее сослали во время революции. Белокурой красавице было тридцать лет, и одновременно с нотариусом в нее влюбился красивый молодой человек из тех мест, крестьянин и поэт по имени Жильдас; она очень скоро ответила на его чувство на глазах ужаснувшегося поклонника-нотариуса. Влюбленные поженились в Париже и вернулись обратно в деревню, куда привезли горничную Флоры (по имени Марта), взбудоражившую весь город и одновременно всех именитых горожан, которым она отдавалась с неистовой страстью. До того момента, пока красивый муж Флоры, в свою очередь, не поддался ей и правда не выплыла наружу во время бала, завершившегося дуэлью. Я не буду рассказывать – как же! Как же! – ни продолжения истории, ни ее конца моим уже заинтригованным читателям.
Я шучу, но эта книга романтична и трогательна, если кому-то нравится стиль рассказчика, сочетающий разум и чувство. Судьба довлеет над всем происходящим так же, как мое перо, и вся история залита дождем и слезами. Добавьте несколько описаний природы, которых давно не было в моих произведениях (с точки зрения Бернара Франка, единственное описание природы в этой книге взято из романа «Через месяц, через год», а в нем в общем и целом есть одна лирическая фраза: «Стояла багряная осень»).
Я рассказывала раньше и более подробно о моей любви к природе. И не буду делать этого снова, ведь мне порой действительно трудно говорить о ней, словно это слишком личная тема. Я могу описывать природу лишь издалека. Кстати, у меня больше нет особого желания рассказывать и о своем псе или его предшественниках, о ряде людей, с которыми меня связывают или связывали прочные узы. Все это – часть меня, часть особого существа, и говорить о них значило бы обратить их в камень, лепить что-то из живого материала, остановить дыхание времени и полет звезд. Не понимаю, почему я способна подвергнуть этой стерилизирующей обработке чувства и порывы, которые напрямую не касаются никого, кроме тех, кто их спровоцировал. Но я всегда думала, что на земле существуют разные союзы и что, помимо семей, объединенных по принципу крови и воспитания, существуют семьи случайные – это люди, в которых смутно узнаешь своего родственника, ровню, друга, любовника, словно их в ходе веков несправедливо разлучили с вами, хотя вы и жили одновременно, только не узнавали друг друга. Это не то, что называют родством душ или тел, это родство, состоящее из молчания, взглядов, жестов, смеха и сдержанного гнева, такие люди задевают друг друга или веселятся по тому же поводу, что и вы. Вопреки распространенному мнению, их встречают не в молодости, а чаще всего позднее, когда на смену желанию нравиться приходит желание понять. Когда не стремятся одержать блестящую победу над другим, а скорее ищут достойного покоя, и главное – когда не надеются разгадать характер кого-то, поняв, что нельзя «по-настоящему» познать никого. И в этих моих рассуждениях нет никакого пессимизма, а есть нечто противоположное.
Итак, я находилась в полной депрессии, как уже было сказано, когда вышел роман «Нависшая гроза», и мне не очень нравилось говорить заинтересованным, оживленным голосом о книге, которая была за тысячу верст от моих ежедневных забот, точнее моего повседневного безразличия. Я испытывала неистовое желание убежать, когда со мной заговаривали о моих прежних или будущих романах и о моей любви к литературе. В тот момент я ею совсем не интересовалась, и предположение о том, что я сяду писать, казалось мне беспочвенным и невероятным. Пришлось дожидаться более позднего момента, – кажется, выхода романа «И переполнилась чаша» четыре года спустя, – чтобы вновь обрести интерес к работе, радость и блаженство творчества. «Нависшая гроза» позволила мне постепенно забыть роман «Женщина в гриме», к тому же его герои не слишком сильно увлекли меня. В прозе многих писателей той эпохи (1870) неизменно присутствует здравый смысл, приличия и нравственность, и о своих персонажах авторы судят по их поступкам или высказываниям. Этот подход я назвала бы «вторым глазом». Такие писатели, как Джейн Остин или Теккерей, взывают к богу, подчеркивая одновременно, что Он не вмешивается в дела людей, и сожалеют об этом. Но что на самом деле думала Джейн Остин о своих героях? Не питала ли она слабости к презренному соблазнителю, разъезжавшему по Брайтону в тильбюри[11] и на красивых лошадях? А если он оказывался циничным или трусливым и соблазнял даже вверенных его покровительству девушек, учил их дурному, как на самом деле относилась к нему Джейн Остин? Иногда в творчестве Эдит Уортон, да и во всей литературе «комильфо», относящейся к XIX веку, отчетливо прослеживается преступное удовольствие, с которым автор изображает очень красивых и очень подлых героев.