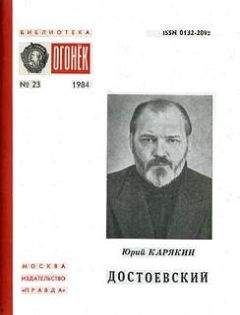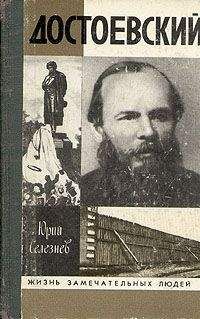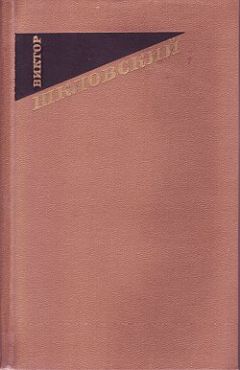Юрий Карякин - Достоевский и Апокалипсис
Вот еще одно доказательство того, что Слово — диалогично по своей природе, по своему происхождению. Что такое драма? — звучащий, кричащий, молчащий — диалог.
И когда М.М. Бахтин говорит о полифонии Достоевского, он вольно или невольно, осознанно или неосознанно, и выражает, выявляет именно звук. «Полифония» — многозвучие, многоушие, многоглаголение, а вовсе не многоглазие: Слово родил не записыватель, не переписчик, не какой-то там китаец или Гутенберг. Слово родил человек кричащий, кричащий о боли, о спасении, о радости.
Глаз убил ухо… Но и — сохранил «ноты» для уха, для звука, для исполнения — музыкой звучащей. Иосиф Бродский читаемый — одно; слушаемый — другое, совсем другое. Как и Ахматова. Как и… О, зачем же тот человек, изобретший звукозапись, не поторопился родиться во время Пушкина. Если бы мы его услышали, Пушкин сказал бы нам больше, чем все, что мы о нем напридумывали, а поэтому: отдадим себе отчет в том, что свидетельства о Пушкине его современников — это свидетельство людей, единственных и неповторимых, — слушавших, слышавших звучащего, говорящего Пушкина…
А мы лишь пытаемся воскресить Пушкина немого. Вдумаемся, кто отец современной, за пять последних веков прозы — кто? Конечно, Шекспир. Что сие значит? А значит: проза современная родилась из драматургии, из слова театрального, звучащего на людях и к людям — слушающим, а не только смотрящим, — обращенное (это мы сейчас читаем драму Шекспира, а те, счастливцы английские, их слышали, слушали).
Проза вообще родилась из поэзии — звучащей, произносимой, слушаемой (Данте). И то превращение классической прозы в драматургию (звучащее слово, через новейшую технологию, кино, телевидение) и выявляет свою природу. И дело вовсе не в том, чтобы сетовать на эту неумолимую тенденцию, а в том, как ее достойно осуществлять. Она неизбежна. Это второе пришествие Слова.
Музыка — это (очень формально говоря), ну конечно, звук, второе — ритм. И то и другое — выражение, осуществление личности. Как неповторимы отпечатки пальцев каждого человека, так неповторим, еще больше, если так можно сказать, отпечаток его звуков, его голоса.
Ср.: читаемый и слышимый Коржавин — плюс-минус: читаемый он меньше поэт, чем слышимый.
Настоящее покорение женщины — покорение голосом.
Ср.: обаяние слова звучащего и прочитанного.
Речь Достоевского о Пушкине. Невероятный и самый убедительный пример. Предельный пример, быть может. (Конечно, не предельный. Предельный — Христос, апостолы записывали Христа с голоса…) Это был, может быть, самый великий в истории России духовный концерт, который посчастливилось услышать очень немногим, а читателям сей партитуры, сих нот это уже было не дано, хотя… Хотя тут немало зависело и от их звукового, художественного воображения.
Обратный пример: антихристовы — революционные — демагоги, мерзавцы времен революций, что французской, что русской. Все эти Робеспьеры, Мараты, Ленины, Троцкие…
Особая тема (развить) — слово христианское и антихристово. Особенно на Руси. Ну почему, почему тот же Достоевский через все свое тихое одинокое писательство столь неотвратимо тяготел, и даже с самого начала, к говорительству (любил с молодости наизусть произносить Пушкина, Шиллера, Гоголя, любил читать из самого себя публично — монолог Мармеладова. И даже на старости лет — монолог Пимена).
Исследовать Речь Достоевского о Пушкине в устном и письменном ее восприятии — великое дело, сулящее великое открытие. Почти предельный пример для этого.
Вся история литературы — это история рождения звучащего слова, превращенного постепенно в немое, немотствующее слово, и, наконец, снова ожившее и звучащее. Это как оттаявшие льдинки: звуки-слова…
«Перед зеркалом»
Кажется, уже в «Самообмане Раскольникова» я подошел к этой мысли о зеркале, а теперь вдруг пробило, пронзило: весь Достоевский (и сам, и герои главные) — стоит «перед зеркалом».
Раскольников смотрится в других людей как в зеркала: в Лужина, в Свидригайлова, но и в мать, в Дуню, Соню, Разумихина, даже в Порфирия (а сам Порфирий смотрится в зеркало Раскольникова). И все — узнают друг друга. И все — боятся себя.
Такого обнажения «перед зеркалом», как разговор Ивана с чертом, не бывало, и будет ли? Томас Манн со своим Ливеркюном лишь «перевел» Достоевского на немецкий: но этот перевод-плагиат одновременно и восхищает, и раздражает.
Да, кстати, для будущего, театрального Достоевского (тут без Давида Боровского не обойтись), — дать образ зеркала на сцене.
Самосознание и самообман… Но ведь это и есть, в сущности, проблема зеркала… Да весь мир, в сущности, и есть гигантская вселенская «комната смеха» (вспомните открытие собственного идиотизма), но еще, конечно, и «комната плача», плача по себе.
…Но таких зеркал, как у Достоевского, — не бывало.
Библия — главное зеркало человека, народов, человечества.
Искусство — зеркало главного зеркала (я говорю о европейском искусстве, но, кажется, и в любом другом искусстве — так же, но по-своему).
Открытие и изобретение… Не равны, не тождественны. Почему? Христианство — открытие духовного зеркала, искусство — изобретение способов постижения этого открытия…
Чувствую, предчувствую, догадываюсь об «ереси» этого утверждения, но и о каком-то зерне его истины.
Наверное, как всегда, «все — сложнее»: в самом искусстве (если рассматривать его автономно) есть свои открытия, но и свои изобретения…
Дать дефиниции, определения открытия и изобретения. Вообще, может быть, лучше сказать так: всякая религия есть открытие духовного зеркала. В чем специфика тогда христианства? Во-первых, в открытии зеркала личностного. Во-вторых, в открытии зеркала общечеловеческого, в-третьих, в каком-то непонятно и понятно органическом сочетании того и другого перед большим зеркалом Бога.
Религия родилась как искусство. Но и искусство родилось как религия.
Были они вначале — абсолютно нерасчлененными. Потом?.. — особо. Думать. Религия — искусство. Искусство — религия. Есть «общий знаменатель» — Апокалипсис, откровение. Почему Церковь боялась искусства? (И даже и до сих пор.) Почему Церковь любила искусство?.. «Большое зеркало». Но были и зеркалята кривые.
Как бы соединить мою наклевывающуюся теорию зеркал с «теорией полифонии» М. Бахтина? Чувствую, что есть точка соединения: зеркала-то — говорящие, кричащие, даже когда молчат.
«Полифония» — «полизеркалье». Зеркала то говорят, то кричат, то молчат — тоже знак! Молчание бывает сильнее всякого крика.
А венецианские зеркала (на рамках которых помещались аллегорические изображения планет)?! Зеркала, отражающие человека «на фоне», точнее, в координатах всей его всемирной судьбы, «на фоне» всего мира, бесконечности, и пространства, и времени…
Раскольников смотрится в Лужина и Свидригайлова как в зеркала, узнает себя и хочет, готов их разбить, чтобы не видеть, не узнать, узнав (то есть обманув себя). То же самое: зеркала Ивана — черта, даже Алеша — Дмитрию: «Ты на верхней ступеньке, я — на нижней, но на той же самой лестнице, — придется все пройти…»
«Юности чистое зерцало»…
Гамлет — матери: «Обрати зрачки свои внутрь себя». Да, открытие (открытие!) зеркала в природе, в озере, в роднике, в колодце уж во всяком случае не менее значительно, чем открытие огня, — тоже ведь дар природы. Замечено наконец человеком. А потом — изобретение техническое, технологическое и зеркала, и огня. И наконец, откровение, Апокалипсис, открытие зеркала духовного.
Достоевский — Герцен — Ленин
Точка здесь такая. 1870 год…
Начало января 1870 года. Достоевский начинает «Бесов».
21 января 1870 года. Умирает Герцен, только что написавший свое гениальное духовное завещание — «Письма к старому товарищу».
21 апреля 1870 года родился Ленин. Родился главный персонаж «Бесов» Достоевского и, в сущности, «Писем к старому товарищу». (Потом он выскажется о тех и других.)
Пересечение в одной «точке» этих трех линий российской судьбы (да и судьбы всего мира) сначала даст небывалый социально-духовный взрыв, а теперь может дать и взрыв понимания.
Хронологически точнее — сначала Герцен, потом Достоевский. «Письма к старому товарищу» — это действительно недооцененная гениальная философия истории, сопоставимая разве что с «Философией истории» Гегеля, самим Герценом (внутренне) противопоставленная Гегелю. Я имею в виду противопоставление герценовской «субъективности» гегелевской «объективности». Точнее: противопоставление понимания истории вне духовно-нравственных критериев, ориентиров, масштабов — с таковыми.