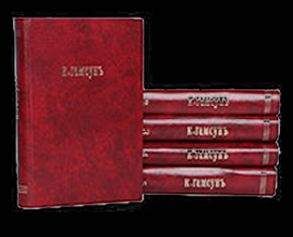Кнут Гамсун - Духовная жизнь Америки (пер. Коваленская)
Большая нація могла бы имѣть въ немъ значительнаго литературнаго критика и законодателя въ продолженіе сорока лѣтъ, но онъ выступаетъ въ критикѣ только какъ служитель Божій, возвышающій свой голосъ отъ имени Господа, онъ нанизываетъ на свое копье людскія прегрѣшенія и показываетъ ихъ людямъ для страха и предостереженія, точно маленькій Самсонъ, вооруженный библейской ослиной челюстью, которою онъ сражается. Никакого прегрѣшенія, никакого порока, никакой вины, никакого человѣческаго заблужденія — пока я — Ральфъ Вальде Эмерсонъ — здѣсь. Мораль затуманила его прекрасную голову и повредила его критическимъ способностямъ. Онъ сожалѣетъ о Вольтерѣ за то, что тотъ сказалъ о «добромъ Іисусѣ»: «Никогда не заставляйте меня больше слышать имя этого человѣка». Онъ цитируетъ Веды, Багаватъ, Гета, Аклаки-Іалоли, Вишну, Пурана, Кришну, Іоганидру, коранъ и библію, подтверждая свои свои эстетическія и философскія опредѣленія. Съ чисто пасторской скромностью онъ осуждаетъ легкомысленную жизнь Шекспира, что дѣлаетъ честь его прямолинейному мышленію.
Эмерсонъ, осуждающій все дурное и легкомысленное и воодушевляющійся только добрымъ и прекраснымъ, занимался литературой въ Америкѣ — странѣ глубоко безнравственной, гдѣ вездѣ, кромѣ Бостона, готовы выбросить за окно всякую библейскую добродѣтель. Эмерсонъ въ нравственномъ отношеніи сильно напоминаетъ англичанина Джона Рёскина, хотя въ эстетическомъ отношеніи послѣдній стоитъ гораздо выше его. Подобно Рёскину Эмерсонъ строитъ критику на нравственномъ основаніи, онъ разсуждаетъ съ точки зрѣнія общепринятой морали, онъ доказываетъ съ Платономъ въ рукахъ и осуждаетъ съ библіей въ сердцѣ. Его журнальныя статьи являются честнѣйшей и чистѣйшей защитой божественной эстетики. Онъ критикъ и пасторъ, и пасторъ въ критикѣ. Онъ не рѣшается сказать, что Гете… Но я лучше приведу выдержку изъ его сочиненія, такъ какъ для критика очень характерно то, чего не рѣшается сказать Эмерсонъ о Гётѣ: «Я не рѣшусь сказать, что Гёте достигъ той высшей ступени, съ которой говоритъ намъ геній. Онъ не поклоняется высшему единству, онъ, какъ крѣпость, недоступенъ для морали. Въ поэзіи бываютъ болѣе благородные мотивы, чѣмъ тѣ, которые онъ воспѣваетъ. Есть писатели съ меньшимъ талантомъ, но ихъ мотивы чище, и они больше захватываютъ душу. Гёте никогда не будетъ дорогъ людямъ. Онъ не признаетъ чистой истины ради истины, онъ признаетъ ее только ради культурности и образованія, къ которымъ она ведетъ. Его цѣль заключается ни больше ни меньше какъ въ завоеваніи всей универсальной природы, универсальной истины (On Goethe, а lecture, стр. 19).
Какая безнравственностъ! Какое преступленіе! И Эмерсонъ говоритъ это отнюдь не въ шутку. Полное отсутствіе насмѣшки въ душѣ этого человѣка является самой „чистой истиной“, которая только мнѣ извѣстна.
Если кто-нибудь поинтересуется познакомиться съ его критикой Шекспира, то пусть прочтетъ Represantative men отъ стр. 115.
Онъ начинаетъ съ того, что Шекспиръ „величайшій драматургъ въ свѣтѣ“, „Духъ Шекспира — это горизонтъ, за которымъ мы ничего не видимъ“, „его творенія снизошли къ нему съ небесъ“, „онъ писалъ аріи ко всякой современной музыкѣ“, „употребляемыя имъ средства такъ же изумительны какъ преслѣдуемыя имъ цѣли“, „ему нѣтъ равнаго по продуктивной силѣ и творческимъ способностямъ“. Наша литература, философія, мышленіе „шекспиризируются“. Панегирикъ Тэна о Шекепирѣ — не болѣе какъ критика въ сравнѣніи съ отзывомъ Эмерсона! Затѣмъ Эмерсонъ доказываетъ, основываясь на словахъ одного англійскаго писателя [13], что у Шекепира удивительная способность заимствовать какъ содержаніе. такъ и текстъ своихъ драмъ. Онъ дѣлаетъ нѣсколько рискованное замѣчаніе, что „вѣроятно, ни одна изъ шекспировскихъ драмъ не является продуктомъ его личнаго творчества“. Онъ говоритъ, что изъ 6,043 строчекъ въ Генрихѣ VI — 1,771 строчка написана не Шекспиромъ; 2,373 строчки также написаны не имъ, а только передѣланы, и только 1,899 строчекъ принадлежатъ исключительно Шекспиру. Какъ согласить этотъ взглядъ Эмерсона съ его предъидущими словами, „что Шекспиру нѣть равнаго по силѣ творчества“, „его достойныя изумленія средства, и т. п. и, наконецъ, что его произведенія „снизошли къ нему съ небесъ“?
„Да“, говоритъ Эмерсонъ, „оригинальность вообще относительна; каждый мыслитель оглядывается назадъ. Нетрудно замѣтить“, говоритъ онъ дальше, „что всѣ лучшія произведенія, написанныя или созданныя геніями, явились плодомъ трудовъ не одного человѣка, но тысячи людей. Куда же дѣвается его ученіе о Платонѣ? Человѣкъ образовываетъ людей?
Эмерсонъ задумывается на нѣсколько минуть надъ этой «относительной оригинальностью» и продолжаетъ: «Ученый членъ законодательнаго собранія въ Вестминстерскомъ дворцѣ или въ Вашингтонѣ говоритъ и подаетъ свой голосъ отъ имени тысячъ». Какой разительный примѣръ того, что всякая оригинальность относительна и что каждый мыслитель оглядывается назадъ!
Но онъ не останавливается на этомъ, у него есть еще и другія доказательства; въ немъ теперь пробуждается азіатъ, передъ его духовнымъ взоромъ встаетъ фетишистъ, критикъ исчезаетъ, пасторъ стушевывается. На той же самой страницѣ, гдѣ онъ въ своей литературной статьѣ только что уличалъ писателя въ воровствѣ, онъ даетъ намъ слѣдующую характеристику Библіи: «Наша англійская Библія представляетъ собою удивительный образецъ музыкальности англійскаго языка; но она не была написана однимъ человѣкомъ и въ одно время; она создавалась и достигла своего совершенства въ продолженіе столѣтій и трудами многихъ церквей. Не было такого времени, въ которомъ не переводили бы той или другой части Библіи. Наша литургія, поражающая красотою и паѳосомъ, является антологіей религіознаго чувства временъ и націй, переводомъ молитвъ и формулъ католической церкви, которыя, въ свою очередь, составились въ теченіе долгихъ періодовъ изъ молитвъ и религіозныхъ размышленій святыхъ и набожныхъ писателей всего міра». Тугъ же Эмерсонъ помѣщаетъ замѣчаніе Гроціуса о молитвѣ Господней. Онъ говоритъ, что она частями давно была извѣстна раввинамъ и что Христосъ только «соединилъ» ее.
Зачѣмъ даетъ Эмерсонъ всѣ эти объясненія? Для того, чтобы показать намъ мыслителей, оглядывающихся назадъ, полную относительность оригинальности и, наконецъ, одновременно доказать полную невинность Шекспира, укравшаго содержаніе и текстъ. Разъ такъ поступили съ Библіей, значитъ это вполнѣ возможно. Эмерсонъ рѣшительно ничего не имѣетъ противъ такого поступка. Но, между тѣмъ, нашъ современный законъ сильно покаралъ бы писателя, который, подобно Шекспиру, былъ бы уличенъ въ такомъ грубомъ литературномъ обманѣ и доставилъ бы большія непріятности редактору Молитвы Господней.
Гётевская истина ради культуры, къ которой она ведетъ, много культурнѣе Эмерсонской «чистой» истины. Всѣмъ писателямъ было бы несравненно легче писать по-шекспировски, чѣмъ стараться творитъ самостоятельно. Если бы мы въ наши дни могли, не стѣсняясь, брать то, что уже написано и передумано другими, напримѣръ, Гёте, и послѣдовать примѣру Шекспира, то тогда даже Уитмановскій «Шапошникъ» могъ бы ежегодно сочинять по парѣ Фаустовъ, — но это нисколько не доказывало бы, что подобный поэтъ могъ бы дорасти хотя бы до колѣнъ Шекспира. Но моральный Эмерсонъ ни однимъ словомъ не критикуетъ нѣсколько устарѣлаго обращенія Шекспира съ чужой литературной собственностью, наоборотъ, онъ философски замѣчаетъ, что вся оригинальность относительна, что доказывается самой Библіей.
Но зато Эмерсонъ находитъ нужнымъ разсуждать о неотносящейся къ литературѣ уличной жизни автора, о Шекспирѣ, какъ о человѣкѣ. Это также свидѣтельствуетъ о характерѣ критическихъ способностей Эмерсона, объ его недостаткѣ психологической чуткости. Какое дѣло критику до того, какъ писатель проводитъ свои дни и свои ночи, онъ можетъ интересоваться этимъ лишь постольку, поскольку это отразилось на это творчествѣ.
Вопросъ заключается въ слѣдующемъ: повредилъ ли творчеству Шекспира его легкомысленный образъ жизни? Испортилъ ли онъ его произведенія? Ослабилъ ли его чувства и творческую силу? Вопросы эти болѣе чѣмъ излишни. Именно благодаря той жизни, которую не допускаютъ Эмерсонъ и бостонскіе эстетики, Шекспиръ пріобрѣлъ тѣ большія познанія и ту глубокую правдивость, передъ которыми мы ежедневно изумляемся и за которыя считаемъ Шекспира великимъ аналитикомъ чувствъ, понимающимъ всякую страсть, всякій грѣхъ, всякое наслажденіе.
Шекспиръ пріобрѣлъ это интимное познаніе всѣхъ человѣческихъ пороковъ и заблужденій, безъ котораго его сочиненія не имѣли бы той цѣны, а его искусство было бы гораздо ниже, — именно, благодаря той жизни, которую велъ бросаясь во всѣ случайности ея и изучая на опытѣ всѣ ступени не только съ чувствомъ, но и со страстью и бѣшенствомъ. Но Эмерсонъ совершенно отказывается понять это. Онъ ни единымъ словомъ не обмолвился о необходимости, или хотя бы о пользѣ его личныхъ жизненныхъ переживаній. Его психологическій взглядъ не идетъ дальше наименѣе человѣческаго въ человѣкѣ, т.-е. морали. Для чего существуетъ только добродѣтель.