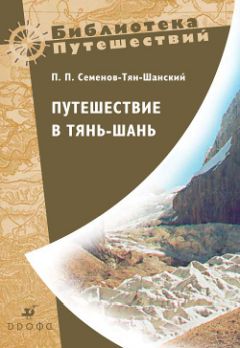Алексей Писемский - Русские лгуны
Когда заутреня кончилась, Имшин первый повернулся и пошел. За ним последовали и другие арестанты. Марья Николаевна долго еще глядела им вслед и прислушивалась к шуму их шагов. Выйдя из церкви, она не пошла к выходу, а повернула в один из коридоров. Здесь она встретила мужчину с толстым брюхом, с красным носом и в вицмундире с красным воротником – это был смотритель замка. Марья Николаевна раскланялась с ним самым раболепным образом.
– Я прошу вас сказать Александру Иванычу, – начала она заискивающим голосом, – что я сегодня выезжаю в Петербург; мне пишут оттуда, что через месяц будет доклад по его делу в сенате; ну, я недели две тоже проеду, а недели две надобно обходить всех, рассказать всем все…
Смотритель на все это только кивал с важностью головой.
– Тут вот я ему в узелочке икры принесла и груздей соленых – он любит соленое, – продолжала она прежним раболепным тоном, подавая смотрителю узелок.
– Пьянствует он только, сударыня, очень и буянит, – проговорил тот, принимая узелок. – Этта на прошлой неделе вышел в общую арестантскую, так двух арестантов избил; я уж хотел было доносить, ей-богу!
– Вы ему, главное дело, водки много не давайте, – совсем нельзя ему не пить – он привык, а скажите, что много нельзя; я не приказала: вредно ему это.
– Нет-с, какое вредно – здоров очень! – возразил простодушно смотритель, так что Марья Николаевна немножко даже покраснела.
– Так, пожалуйста, не давайте ему много пить, – прибавила она еще раз и пошла.
На углу, на первом же повороте, на нее подул такой ветер, что она едва устояла; хорошенькие глазки ее от холода наполнились слезами, красивая ножка нетвердо ступала по замерзшему тротуару; но она все-таки шла, и уж, конечно, не физические силы ей помогали в этом случае, а нравственные.
19 мая 184… было довольно памятно для города П… В этот день красавца Имшина лишали прав состояния. Сама губернаторша и несколько дам выпросили в доме у головы позволение занять балкон, мимо которого должна была пройти процессия. В окнах всех прочих домов везде видны были головы женщин, детей и мужчин; на тротуарах валила целая масса народу, а с нижней части города, из-под горы, бежала еще целая толпа зевак.
На квартире прокурора, тоже находящейся на этой улице, сидели сам он – мужчина, как следует жрецу Фемиды, очень худощавый, и какой-то очень уж толстый помещик.
– Она при мне была у министра, – говорил тот, – так отчеканивает все дело…
Прокурор усмехнулся.
– У сенаторов, говорят, по нескольку часов у подъезда дожидалась, чтобы только попросить.
– Любовь! – произнес прокурор, еще более усмехаясь.
– Но как хотите, – продолжал помещик, – просить женщине за отца, брата, мужа, но за любовника…
– Да… – произнес протяжно и многозначительно прокурор.
– Тем более, говорят, я не знаю этого хорошенько, но что он не застрелил девочку, а пристрелил ее потом.
– Да, в деле было этакое показание… – начал было прокурор, но в это время раздался барабанный стук. – Едут, – сказал он с каким-то удовольствием.
Из ворот тюремного замка действительно показалась черная колесница. Имшин сидел на лавочке в той же красной рубахе, плисовой поддевке и плисовых штанах. Лицо его, вследствие, вероятно, все-таки перенесенных душевных страданий, от окончательно решенной участи, опять значительно похудело и как бы осмыслилось и одухотворилось; на груди его рисовалась черная дощечка с белою надписью: Убийца…
Из одного очень высокого дома, из окна упал к нему венок. Это была дама, которую он первую любил в П… С ней после того сейчас же сделалось дурно, и ее положили на диван. На краю колесницы, спустивши ноги, сидел палач, тоже в красной рубахе, синей суконной поддевке и больше с глупым, чем с зверским лицом.
В толпе народа, вместе с прочими, беспокойной походкой шла и Марья Николаевна; тело ее стало совершенно воздушное, и только одни глаза горели и не утратили, кажется, нисколько своей силы. Ей встретился один ее знакомый.
– Марья Николаевна, вы-то зачем здесь?.. Как вам не грех? Вы только растревожитесь.
– Нет, ничего! С ним, может быть, дурно там сделается!
– Да там есть и врачи и все… И отчего ж дурно с ним будет?
Дурно с преступником в самом деле не было. Приговор он выслушал с опушенными в землю глазами, и только когда палач переломил над его головой шпагу и стал потом не совсем деликатно срывать с него платье и надевать арестантский кафтан, он только поморщивался и делал насмешливую гримасу, а затем, не обращая уже больше никакого внимания, преспокойно уселся снова на лавочку. На обратном пути от колесницы все больше и больше стало отставать зрителей, и когда она стала приближаться к тюремному замку, то на тротуаре оставалась одна только Марья Николаевна.
– Я уж лошадь наняла, и как там тебя завтра или послезавтра вышлют, я и буду ехать за тобой! – проговорила она скороговоркой, подбегая к колеснице, когда та въезжала в ворота.
– Хорошо! – отвечал ей довольно равнодушным голосом Имшин.
Оставшись одна, Марья Николаевна стыдливо обдернула свое платье, из-под которого выставлялся совершенно худой ее башмак: ей некогда было, да, пожалуй, и не на что купить новых башмаков.
В теплый июльский вечер по большой дороге, между березок, шла партия арестантов. Впереди, как водится, шли два солдата с ружьями, за ними два арестанта, скованные друг с другом руками, женщина, должно быть, ссыльная, только с котомкой через плечо, и Имшин. По самой же дороге ехала небольшая кибиточка, и в ней сидела Марья Николаевна с своим грудным ребенком. Дорога шла в гору. Марья Николаевна с чувством взглянула на Имшина, потом бережно положила с рук спящего ребенка на подушку и соскочила с телеги.
– Ты посмотри, чтобы он не упал, – сказала она ехавшему с ней кучером мужику.
– Посмотрю, не вывалится, – отвечал тот грубо.
Марья Николаевна подошла к арестантам.
– Ты позволь Александру Иванычу поехать: он устал, – сказала она старшему солдату.
– А если кто из бар наедет да донесут, – засудят!.. – отвечал тот.
– Если барин встретится, тот никогда не донесет – всякий поймет, что дворянину идти трудно.
– И они вон тоже ведь часто ябедничают! – прибавил солдат, мотнув головой на других арестантов.
– И они не скажут. Ведь вы не скажете? – сказала Марья Николаевна, обращаясь ласковым голосом к арестантам.
– Что нам говорить, пускай едет! – отвечали мужчины в один голос, а ссыльная баба только улыбнулась при этом.
Имшин ловко перескочил небольшую канавку, отделяющую березки от дороги, подошел к повозке и сел в нее; цепи его при этом сильно зазвенели.
Марья Николаевна проворно и не совсем осторожно взяла ребенка себе на руки, чтобы освободить подушку Имшину, он тотчас же улегся на нее, отвернулся головой к стене кибитки и заснул. Малютка между тем расплакался. Марья Николаевна принялась его укачивать и стращать, чтобы он замолчал и не разбудил отца.
Когда совсем начало темнеть, Имшин проснулся и зевнул.
– Маша, милая, спроси у солдата, есть ли на этапе водка?
– Сейчас; на, подержи ребенка, – прибавила она и, подав Имшину дитя, пошла к солдату.
– На этапе мы найдем Александру Иванычу водки? – спросила она.
– Нет, барыня, не найдем; коли так, так здесь надо взять; вон кабак-то, – сказал солдат.
Партия в это время проходила довольно большим селом.
– Ну, так на вот, сходи!
– Нам, барыня, нельзя; сама сходи.
– Ну, я сама схожу, – сказала Марья Николаевна весело и в самом деле вошла в кабак. Через несколько минут она вышла. Целовальник нес за ней полштофа.
– Что за глупости – так мало… каждый раз останавливаться и брать… дай полведра! – крикнул Имшин целовальнику.
Марья Николаевна немножко изменилась в лице.
Целовальник вынес полведра, и вместе с Имшиным они бережно уставили его в передок повозки.
– Зачем ты сама ходила в кабак? Разве не могла послать этого скота? – сказал довольно грубо Имшин Марье Николаевне, показывая головой на кучера.
– А я и забыла об нем совершенно, не сообразила!.. – отвечала она кротко.
Печаль слишком видна была на ее лице.
Этап находился в сарае, нанятом у одного богатого мужика.
– В этапе вам, барыня, нельзя ночевать; мы запираемся тоже… – сказал Марье Николаевне солдат, когда они подошли к этапному дому. – Тут, у мужичка, изба почесть подле самого сарая: попроситесь у него.
Марья Николаевна попросилась у мужика, тот ее пустил.
– Там барин один идет, дворянин, так чтобы поесть ему! – сказала она хозяину.
– Отнесут; солдаты уж знают, говорили моей хозяйке.
Марья Николаевна, сама уставшая донельзя, уложила ребенка на подушку, легла около него и начала дремать, как вдруг ей послышалось, что в сарае все более и более усиливается говор, наконец раздается пение, потом опять говор, как бы вроде брани; через несколько времени двери избы растворились, и вошел один из солдат.