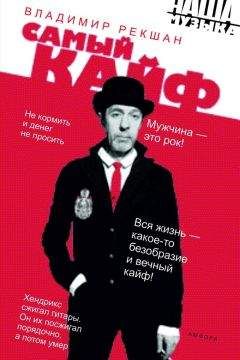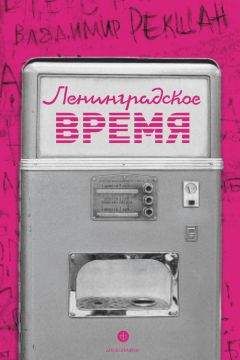Владимир Рекшан - Кайф
-- Это ты видел? Друзьями! У-у, сволочи!
Я иду к Никите и смеюсь над ним:
- Ты случайный, понял? - Он не понял, - Они жизнь поставили! У них жизнь каждый день стоит, а у нас - случается! Я из них, сволочей, очаровников сделал, а они - случайные! - Никита не понимает. - Ты не понимаешь? Нет? Нас выгнали! Меня эти сопли выгнали из Санкт-Петербурга, который я сделал...
Витя подошел и положил руку на плечо.
- Успокойся, старина. Мы не сволочи. У нас теперь другое название.
- Убери руку, дружок. - Я сбрасываю его руку и отворачиваюсь. - У вас не может быть названия. У вас и имени-то нет.
- Большой железный колокол, - говорит Витя и начинает злиться. Хватит, не воняй тут.
Я неожиданно успокаиваюсь:
- Ладно, перестаю вонять. Что играть станете? Моих чур не играть.
- Мы две недели репетировали.
Набиваются в стекляшку рок-н-ролльщики и кайфовальщики, а мы с Никитой садимся за крайний столик и тоже кайфуем. Хорошо сидеть и кайфовать, когда другие поставили жизнь. Ничего поставили, думаю про себя с завистью. Николай играет на гитаре, а на барабанах колотит Курдюков. Мишка Курдюков - был такой барабанщик. Майкл! Когда они его успели подцепить, сволочи! Здорово спелись, сволочи, хотя Николай на гитаре и не пашет, но в сумме нормально звучит, кайф! А мы с Никитой кайфуем за сиротским столиком семимильными шагами, и через полтора часа кайф оборачивается икотой и головной болью.
- А ничего. А? Ничего, это, они рубят, - икает Никита.
- Большой железный колокол, понимаешь, - икаю в ответ. - У них колокол, бля, а у нас икота.
- Ты кайфуй, сиди. Щас денег дадут.
- Кайфую. Главное, никакого тебе обходного листа.
- Кайф!
Мы получаем сотню пятерками, делим пополам и выходим на мороз. Сугроб на сугробе и сугробом погоняет - зима. Вихляя, подкатывает автобус. Я достаю пачку пятерок и выбрасываю ее на ветер. Подхваченные поземкой, пятерки вальсируют по сугробам.
- Деньги на ветер, - говорю я. - И ты выброси, Никита. Выброси.
- Нет, - отвечает Никита. - На фиг надо! Не выброшу. Ты пижон, старичок. Это работа.
- Это кайф, - не соглашаюсь я. - А кайф не стоит ничего. Ничего, кроме жизни.
- Вот-вот. Вот ее я и приберегу на случай.
Мы садимся в автобус и, долго икая, едем неизвестно куда...
Однако развод затягивается на неделю. Через Витю уславливаемся с Колоколом - те концерты, о которых договаривался я или Никита, работаем Петербургом.
Привычно улыбаясь кайфовальщикам и рок-н-ролльщикам и дрыгая ножками, срываем несколько лавровых венков, получая по сотне от предновогодних студентов, и последний раз выступаем на сейшене с закусками в гостинице Советской, где на последнем этаже арендовали большой банкетный зал организованные кайфовальщики из недавних стройотрядовцев. То ли благосостояние росло, то ли солнечная активность виновата, но в конце семьдесят третьего почему-то Петербург приглашали концертировать именно в кабаки.
Играем, дрыгаем ножками, кощунственно поем о том, чем жили вместе и с чем терзались на бесконечной стене.
Нас с Никитой не устраивает отставка по предложенной модели: вы, мол, случайные, а мы вам выплачиваем. Но в Водонапорной башне знают вахтеры Витю и Николая, и сейчас грузовик с глухим кузовом ждет, чтобы отвезти обратно. Вот именно - грузовичок. После концерта получаем сотню за поддельный кайф и долго грузим электродерьмо в грузовичок. Я подруливаю к ленивому водиле и, сунув десятку, прошу сперва подбросить на проспект Металлистов. Туда ехать делать крюк, но водиле за десятку все равно.
Новый год на носу, и это наш последний общий кайф. Я сажусь в кабину к водиле, а Витя, усмехаясь, говорит:
- Напоследок с шиком, да?
- С шиком, старичок, с шиком.
Мужики залезают в глухой кузов, и грузовичок фигачит по морозным улицам на проспект Металлистов.
Заезжает во двор, останавливается. Выпрыгиваю из кабины и распахиваю кузов.
- Вылезайте, сволочи, приехали.
- Ага, - говорит Витя, вылезая. - Черт, а куда это приехали?
- Ты приехал, куда ты, гад, за милостыней ходил. Никита поясняет:
- Такой попс, мужики. Сперва подсчеты - потом расчеты.
- Аппарат оставим у меня, подобьем бабки, а после разберемся, кому что. Колокол молчит. Витя сморкается, Никитка плюется, а Николай просто молчит и курит.
- Обжилите? - спрашивает Витя.
- Жилить нечего, - отвечаю я. - Помогайте таскать.
- На хрен еще и таскать, - ругается Николай и уходит с Никиткой, а Витя все-таки остается помогать.
Развод по-славянски с дележом сковородок, самоваров и мятых перин.
Итог нашего восхождения обиден и насмешлив: Никита - минус пятьсот рублей, я - минус пятьсот тридцать рублей, Никитка - по нулям, Витя - минус двести рублей, Николай - плюс двести сорок.
На этом, собственно, история славного детища моего Санкт-Петербурга заканчивается, но не заканчивается жизнь, и эта жизнь - веселая и честолюбивая штука - не дает покоя, хотя помыслы мои все на стадионе и надежды жизни все там, но не верится, что более не кайфовать на сцене, бросая свирепые и презрительные взгляды на зал, кайфующий и вопящий.
Я призываю под обтрепанные знамена удалых Лемеговых, сочиняю публицистическую композицию Что выносим мы в корзинах?, сделанную в трех но каких! - аккордах, и пытаюсь подтвердить законное право соверена рок-н-ролльных подмостков. Отдельные схватки с Колоколом, Землянами и прочими вроде б и подтверждают силу, но объективный закон уже привел ленинградский рок к раздробленности, бессилию и временной импотенции. Грядут уже времена Машины времени, когда аферисты-подпольщики и кайфовальщики воспрянут духом и завертятся серьезные дела с московским размахом, помноженным на ленинградскую истерическую сплоченность.
Весной семьдесят четвертого я перепрыгиваю в высоту 2,14 на Зимнем первенстве страны, где побеждаю многих именитых, ближе к лету защищаю диплом, у меня рождается дочь, меня вот-вот забреют в армию на год... Как-то с Никитой в нестандартном состоянии крови и печени появляемся на выступлении Колокола, где выползаем на сцену и с помощью Вити рубим мой супербоевик С далеких гор спускается туман, как бы прощание с бесконечной стеной без вершины. После я крошу гитару о сцену под вой кайфовальщиков и прощальный плач Колокола, после еду один домой, вдруг понимая, что - все, не могу, не хочу, истерия, невроз, хочу тихо-тихо прыгать, бегать и ничего не знать и не слушать.
Продаю свою часть аппаратуры, пластинки, магнитофон, обнаруживая перед собой новую отвесную стену, и стена эта - олимпийская и у нее тоже нет вершины, по крайней мере, для меня.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Фельдшер задирает подол белого халата и мочится на угол деревянного барака. Я останавливаюсь, опускаю на снег ведро, полное серебристого антрацита, а он, фельдшер, не переставая мочиться, повторяет надоевшее:
- Топить, топить надо! Температура падает.
Но температура на котле за восемьдесят, и я не виноват, что холодно в старом дырявом бараке возле пирса. Фельдшер стар, но не дряхл, он морщинистый, худой и низенький, напоминающий то ли морского конька, то ли черепаху без панциря. С утра фельдшер мучается похмельем и пристает к кочегарам.
Возле котла после улицы жарко. Я выворачиваю антрацит в ржавую бадью и начинаю чистить топку. Ажурные и горячие пласты шлака, ломаясь, вываливаются в широкий совок. Я выхожу на улицу и опрокидываю совок над сугробом, коричневатая пыль летит по ветру, а снег шипит и плавится. Тридцатипятиградусный мороз прорывается под свитер, и я со странным удовлетворением вспоминаю про хронический тонзиллит, подтверждающий мое петербургское происхождение.
В моем возрасте, мне тридцать шесть, в моем тонзиллите и нежданном кочегарстве нет ничего трагического. У меня есть серьезное гуманитарное дело, в котором, я чувствую, назревает удача, а кочегарка - это честный способ временной работой оплатить временное жилье с окнами на царский парк и золоченые ораниенбаумские чертоги.
Я возвращаюсь к котлу, закрываю дверь, долго сижу, греюсь, смотрю на огонь и курю. Ох, и надоел же мне этот фельдшер! У меня независимая комнатушка возле медсанчасти, но мне хочется посидеть здесь и не думать о гуманитарном деле, к которому следует принуждать себя каждый день, поскольку еще на стадионе так учили и я свято верю, что принуждать себя стоит ко всякому делу, в котором рассчитываешь на успех. Я и принуждаю, хотя лень кокетлива и влечет, как женщина. До тридцати я был добротным, словно драп, профессиональным спортсменом и до тридцати это было хорошим прикрытием для непрофессионального гуманитарного дела.
Но иногда хочется - чтобы сразу, чтобы без долгих терзаний на долгом пути, каждый шаг познания на котором лишь отбрасывает от загаданной цели, чтобы с простодушием новичка сразу победить и успокоиться.
И вот позапрошлой осенью мы встретились нечаянно на Староневском и поговорили, укрывшись от дождя в парадной.