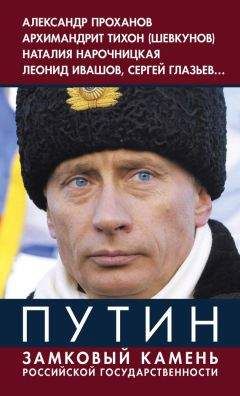Александр Проханов - Алюминиевое лицо. Замковый камень (сборник)
Зеркальцев чувствовал, как слова председателя коснулись его. Проникли сквозь тонкий блестящий доспех, которым он себя окружил, не позволяя треволнениям мира проникать под защитную оболочку, делающую его жизнь изящной, благополучной и легкой. Он вдруг ощутил себя частью этого сельского схода, куда призвало его унылое железное било. Он был из того же народа, был для них братом, одной с ними беды и доли. И тому тощему, с расцарапанным лицом мужику в синей рубахе был он братом. И тому однорукому, в камуфляже, инвалиду с опухшим от пьянства лицом. И той простоволосой женщине, совавшей в кулек тряпья воспаленный синий сосок.
«Это мой народ!» – думал он, сострадая и одновременно восхищаясь этим новым для себя переживанием. Оно пробило легкий сверкающий слой его поверхностных представлений и открыло бездну, сладкую, пугающую, драгоценную, в которой все они – молодые и старые, бедные и богатые, счастливые и горемыки, еще живые и уже мертвые, – все они были братьями. Были единым народом.
– Что я вам скажу, дорогие мои! – Председатель услышал отклик своим мольбам и упованиям. – Все у нас заладится, вот вам крест! Возьму кредит в банке, сговорился с добрыми людьми. Купим коров красной голландской породы, с надоями под семь тысяч литров. Купим трактор, семян, горючку. За эти пятнадцать лет земля-матушка отдохнула. Центнеров под пятьдесят соберем. Отстроим коровник, начнем капитал вкладывать в технику, в молочный завод, в коптильню. Я все просчитал, каждую копейку.
За три года поднимем хозяйство, не хуже прежнего. Как наши отцы после войны страну поднимали. Из пепла да прямо в космос! Только захотеть, всем собраться. Друг дружке руки протянуть! А я вам свои протягиваю!
Председатель вытянул с крыльца свои длинные, вылезавшие из рукавов руки с огромными черными ладонями, пропитанными железом и смазкой. И люди потянулись к этим ладоням, словно хотели их все разом пожать.
Мужик с расцарапанным лицом в замызганной синей рубахе по-петушиному подпрыгнул, хлопнул себя по бокам руками, словно хотел взлететь:
– Мироныч, пойдем за тобой! Надоело водку жрать! Анька из города вернется, чтоб водку из магазина долой! Если водку на прилавке увижу, сам разобью о ступени к ядреной маме! А кто ее, суку, станет с земли хлебать, тому бутылкой по башке! – И он сжал в воздухе кулак, разбитый в кровь то ли в паденье, то ли в пьяной драке.
– Надо мужиков, которые баранку крутить умеют, надо их из города обратно домой зазывать. – Инвалид в камуфляже тряхнул пустым рукавом. – Ежели бы мне какой-никакой грузовичок или трактор доверили, я бы с ним одной рукой управлялся. Чай не бэтээр!
– Вы наших мужиков из тюрем верните! – прокричала тонколицая, с кудряшками женщина на длинных ногах, обутых в калоши. – Сам, Мироныч, поезжай в колонию, поговори с начальством. «Так и так, освобождайте досрочно. Им работа в колхозе есть, воровать не будут». А мы, бабы, за ними присмотрим.
– Надо из города учительницу Клавдию Петровну вернуть. Обустроить ее здесь по-людски. Двойной оклад положить. Куда ж с детишками без школы? – Это выкрикнула молодая женщина в сбитом набок платке и в грязном фартуке, которые мешали разглядеть в ней красавицу.
– Люди, Мироныч дело говорит! Надоело по-скотски жить! Пока он кредит возьмет и трактор купит, давай село приберем. Мусор с улиц сгребем, заборы поправим, деревца у правления посадим! Вон монастырь рядом, как царский дворец, в золоте и камнях дорогих, а у нас собаки дохлые на дороге!
– Правильно! Руководи, Мироныч! Ты наш председатель! Русские победят!
Воодушевление царило в народе. Словно пали злые чары и отступило колдовство, превращавшее людей в истуканов. Все двигались, гомонили, смеялись, толкали друг друга под бока, кричали на ухо глухим старикам, втолковывали древней, притащившейся на костыле старухе. Бог весть откуда появился красный флаг с серпом и молотом, его повесили над крыльцом правления, и он трепетал над головой председателя. Появилась гармошка. Маленький мужичок в кепке молодцевато раздвигал малиновые меха, перебирал кнопки, и уже две бабы затопотали, повизгивая, выкрикивая птичьими голосами озорную частушку.
И уже расходились по дворам, выносили метлы, лопаты, вилы. Начинали грести мусор, обмениваясь зычными насмешливыми окриками.
«Мой народ!» – думал Зеркальцев, испытывая счастливое волнение. Медленно пошел вдоль села, туда, где высились какие-то руины, громоздился ворох разбитой сельскохозяйственной техники и открывалась зеленая пустошь.
Там, за селом, на некошеном лугу, лежали неотесанные бревна, так и не пущенные в дело. Сосновая кора слабо краснела, от нее веяло теплом. Зеркальцев лег на бревна, вытянулся вдоль теплого ствола и лежал, слыша далекие переливы гармони.
«Как хорошо, – думал он, – что великолепный автомобиль ХС90 примчал меня в это русское захолустье, столь не похожее на холеные европейские города, роскошные автострады, туристические красоты, среди которых в сотый раз просверкает Парфенон, Кельнский собор, венецианский Гранд-канал. А вместо этого – разоренная Родина, при взгляде на которую хочется плакать. Измученный, погибающий народ, который сражается со своим несчастьем». И это его, Зеркальцева, народ, его, Зеркальцева, несчастье. И от этого мир, казавшийся сверкающей гладкой поверхностью, по которой так упоительно скользить, вдруг превратился в таинственный непознанный объем с провалами и ослепительными пиками, и в этот объем помещалась его, Зеркальцева, жизнь, готовая рухнуть в провалы или вознестись к сверкающим вершинам.
Он вдруг впервые за долгие годы стал думать о своей далекой родне, жившей в саратовских степях, торговавшей хлебом, гонявшей вверх по Волге тяжелые барки с зерном. О своем прадеде, что построил на волжском берегу церковь и открыл в побережных селах школы и библиотеки. Он помнил об этом прадеде смутные подробности, о которых рассказывала ему мать. Но ее уже не было на свете. И эта невозможность поговорить с ней, утерянная навсегда сладость видеть ее дорогое лицо причинили ему мгновенную боль, которая сменилась умилением и печалью.
Он думал о своих новых знакомцах, которые поначалу показались ему провинциальными безумцами, но потом обнаружили в себе народную сказочность, давно исчезнувшую в циничных и меркантильных москвичах, но сохранившуюся в краю монастырей, паломников и народных мудрецов.
Он слушал далекую гармонь. Сладкий ветер летел над лугом. Теплые сосновые бревна пахли смолой. И он уснул, окруженный тайной, которая лишь на первый взгляд казалась темной и пугающей, но хранила в себе ослепительную красоту.
Он проснулся, когда солнце перешло на другую сторону неба. Все казалось иным. Ветер дул с другой стороны. Тени от бревен лежали иначе. Гармонь в селе то умолкала, то одиноко и дико взвизгивала. И оттуда, где стояли дома и открывалась улица, тянуло каким-то бесцветным угаром.
Зеркальцев, испытывая дурные предчувствия, двинулся на этот угар, который сочился больными удушающими струями.
Сначала он увидел брошенную лопату и метлу и носилки, до половины наполненные мусором. Потом ему навстречу попался человек, пьяный, с растрепанными волосами и слепо раскрытыми, побелевшими глазами. Он шатался, шарахался из стороны в сторону. Упал, попробовал подняться. Снова упал и пополз на четвереньках, по-собачьи, рыча и поскуливая.
У ограды дома спорили два мужика, остервенелые, красные, ненавидящие. Толкали друг друга в грудь кулаками, пока один не хрястнул другого в лицо, выбивая из носа красные брызги, и они сцепились в комок, грызли друг друга, рвали рубахи, бессвязно крича и охая.
Из проулка вывернул сельский дурачок. Слюнявый рот был растянут в идиотской улыбке, синие, слезящиеся глаза смотрели блаженно вдаль. Он прижимал к груди недопитую бутылку. Останавливался, запрокидывал небритую шею и сладостно вливал в себя водку, захлебываясь, постанывая и икая.
Из дома выбежала босая, в разорванной кофте женщина, пьяно споткнулась, кинулась по улице, голося:
– Ой, мамочки родные, за что он меня топором! Отымите топор у зверя!
Вслед ей вышел из калитки мужик в рубашке навыпуск, с мутными злыми глазами:
– Бежи, бежи, сука! Вернешься, все одно зарублю!
Село хрипело, шевелилось, звякало. Открывались и захлопывались окна. Стучали двери. Люди выбегали из домов и снова вбегали, словно торопились совершить какое-то неотложное дело. У тех, кто вбегал, в руках блестели бутылки. У тех, кто выбегал, лица были сосредоточенные, одержимые страстью, обращены все в одну сторону, где находилась одна для всех желанная цель.
Зеркальцев, испытывая страх и страдание, шел по селу, чувствуя, что на село совершено нападение. Жители, собравшиеся на сход, захотели освободиться от гнета, сбросить захватчиков, подняли восстание. Но захватчики кинули на подавление бунта карателей, и восстание было жестоко подавлено, в селе шла расправа.