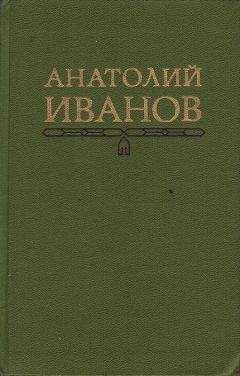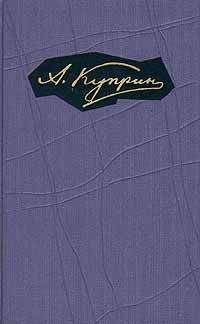Александр Блок - Том 5. Очерки, статьи, речи
Но любовница и двойник исчезали, крутясь, во мгле туманной и возвращались опять, кутаясь в лед и холод, вечно готовясь заискриться, зацвести небесными розами, и снова падая во мглу. А демон, стоящий на крутизне, вечно пребывает в сладком и страстном ужасе: расцветет ли «улыбкой розовой» ледяной призрак?
В ущельях, у ног его, дольний мир вел азартную карточную игру; мир проносился, одержимый, безумный, воплощенный на страдание. А он, стоя над бездной, никогда не воплотил ничего и с вещей скукой носил в себе одно знание:
Я знал, что голова, любимая тобою,
С моей груди на плаху не падет.
На горном кряже застал его случай, но изменил ли он себе? «На лице его играла спокойная и почти веселая улыбка… Пуля пробила сердце и легкие…» Кому? Тому ли, кто смотрел с крутизны на мировое колесо? Или тому, двойнику, кто в гусарском мундире, крутя ус, проносился в безднах и шептал сладкие речи женщине в черных шелках?
И снился мне сияющий огнями
Вечерний пир в родимой стороне…
…И снилась ей долина Дагестана;
Знакомый труп лежал в долине той…
В этом сцеплении снов и видений ничего уже не различить — все «заколдовано»; но ясно одно, что где-то в горах и доныне! пребывает неподвижный демон, распростертый со скалы на скалу, в магическом лиловом свете.
Другой колдун также не воплощал ничего. Гоголь зарывался в необозримые ковыли степей украинских, где нога человеческая не ступала и никогда не нарушалась тишина. Только Днепр тянул серебряную ленту свою, да пел однообразный, как степные цикады, колокольчик, да мать-казачка билась о стремя сына, пропадающего в тех же необозримых ковылях.
Небо и степь вбирали, поглощали все звуки, там, где востроносый колдун выводил из земли, треснувшей под зноем, казака, на страх и потеху есаулу: «приподняв иконы вверх, есаул готовился сказать краткую молитву… как вдруг закричали, перепугавшись, игравшие на земле дети, а вслед за ними попятился народ, и все показывали со страхом пальцами на стоявшего посреди их казака. Кто он таков, никто не знал. Но он уже протанцевал на славу казачка и уже успел насмешить обступившую его толпу. Когда же есаул поднял иконы, вдруг все лицо казака переменилось: нос вырос и наклонился на сторону, вместо карих запрыгали зеленые очи, губы засинели, подбородок задрожал и заострился, как копье, изо рта выбежал клык, из-за головы поднялся горб, и стал казак — старик». Так выпроводили казака, не узнав в нем колдуна и забавника Гоголя, у которого и нос наклонился на сторону, и подбородок заострился, как копье. А колдун появился уже на Карпатах: «вдруг стало видимо далеко во все концы света… Тут показалось новое диво: облака слетели с самой высокой горы, на вершине ее показался во всей рыцарской сбруе человек на коне с закрытыми очами, и так виден, как бы стоял вблизи» («Страшная месть»). Это были шутки колдуна, который лежал себе в ковылях и думал одну долгую думу. А мгновенные видения его, призраки невоплощенные тревожно бродили по белу свету.
Третий был слеп. Оттого он забрел на конец света, где, в сущности, нет ничего, кроме болот с чахлыми камышами, переходящими в длинное серое море. Он основался там, где
…крайняя заводь глухая,
Край лиманов и топей речных,
И над взморьем клубится, вздыхая,
Дым паров и снарядов стальных.
Кто-то уверил его, что там будто бы находится столица России, что туда стянулись интересы империи, что оттуда правят ее судьбами. Под стук извозчичьих дрожек, катающих бледных существ взад и вперед по болоту, под звуки фабричных гудков, в дыму торчащих из мглы труб, — слепец расхлебывал вино петербургских туманов. Он был послан в мир на страдание и воплотился. Он мечтал о Боге, о России, о восстановлении мировой справедливости, о защите униженных и оскорбленных и о воплощении мечты своей. Он верил и ждал, чтобы рассвело. И вот перед героем его, перед ему подобными, действительно рассвело, на повороте темной лестницы, в глубине каменных ворот самое страшное лицо, воплощение хаоса и небытия: лицо Парфена Рогожина. Это был миг ослепительного счастия. И в тот же миг все исчезло, крутясь как смерч. Пришла падучая.
Таков был результат воплощения прежде времени: воплотилось небытие. Вот почему в великой триаде хитрые и мудрые колдуны ведут под руки слепца; Лермонтов и Гоголь ведали приближение этого смерча, этой падучей, но они восходили на вершины или спускались в преисподнюю, качая только двойников своих в сфере падучей; двойники крутились и, разлетаясь прахом, опять возникали в другом месте, когда смерч проносился, опустошая окрестность. А колдуны смотрели с вещей улыбкой на кружение мглы, на вертящийся мир, где были воплощены не они сами, а только их двойники.
Потому же нам окончательно понятен Достоевский только через Лермонтова и Гоголя. Для нас они как бы руководят им, учат слепца той мудрости, которой он сам не желал. Он очертя голову бросается в туман, летит и падает в падучей; он носит в душе вечную тревогу, надрыв, подступает вплотную к мечте, ищет в ней плоти и крови; они парят, прислушиваясь, осязая туман, но никогда не портя мечты своей, не ища в ней плоти и крови.
Достоевскому снится и вечная гармония; проснувшись, он не обретает ее, горит и сгорает; Гоголь и Лермонтов бессознательно и невоплощенно касаются крылами к вечной гармонии и летят прочь, горя, но не сгорая. Достоевский, как падучая звезда, пролетает в летучих туманах Гоголя и Лермонтова; он хочет преобразить несбыточное, превратить его в бытие, и за это венчается страданием. Они свершают над несбыточным обряд легких прикосновений: коснутся крылами — и опять летят в туман.
Потому два современных писателя, о которых я хочу сказать, более близки к Лермонтову и Гоголю, чем к Достоевскому. От первых перешла к нам мудрость, от второго, может быть, — только опыт его страдания. Они свершают легкие обряды над новой нитью превращений, протянутой тихим торжествующим лучом. Они крылаты и витают над туманами, не падая в их беспросветную глубь. И потому они узнали ту кристальную тишину, звонкую, как голос золотой свирели. Поет тишина, и цветет она; что нужно, кроме такой тишины, думаем мы, читая их произведения?
Бледный закат и тонкий зеленоватый серп месяца — музыка легких прикосновений у З. Гиппиус. Преображение совершается в глубинах зеркала, в тенистой вечерней комнате, в падении пушистых снежинок. Нет в этой вечно осенней и вечно разлучной дымке мечтаний — никакой несбыточности счастья. Скорее это несбыточность бытия от счастья. Медленно проходят, смотря вперед и поверх мира, тонкие, узкие, гибкие женщины — от Марты («Яблони цветут») до Марий-Май, — давно обрученные, дивящиеся чужому неведенью об обручении с влюбленностью, белой, прозрачной и бескровной в мире, воплощенной за порогом мира, — прежде, потом, всегда. Кажется, шествующим над миром так легко вступить в мир и творить в нем легкие чудеса. В их шествии есть глубина знания о бесконечной свободе и какая-то вольная нищета — в узоре слабых, девических рук. Нам кажется, что они идут мимо, не задевая и не тревожа, но они уже среди нас; они несбыточно близки. Мы же узнаем, что одна из них, проходя, задела нас длинным, прозрачным покрывалом.
Неизвестно, откуда приходят они и куда уходят, то изнемогая от своей бесцельной свободы, то побеждая одним мановением мир, плещущийся вокруг них усталой и нежной волной. Он непонятен для них, как и они для него; полудевушкам, полурусалкам — им «ни счастия, ни радости не надо». Они знают одну только невозмутимую Тишину:
И слышу я, как шепчет тишина
О тайнах красоты невоплощенной,
Лишь неразгаданным мечтанья полны,
Не жду и не хочу прихода дня.
Сологуб знает тайну преображения, свершающегося во мгле стихий. Он совершенно одинокий — «бог таинственного мира». Для него существует «я», в котором, преломляясь, преображается прекрасное: смерть, любовь, красота — и хаотический мир, в котором все стихийно: день и ночь, земля и вода, и море человеческой пошлости. И когда стихии, смутные и неопределенные, выносятся на берега его романа и рассказа, написанного дремучим незапятнанно-чистым языком, равным разве только гоголевскому языку, они становятся его творением, ясным преображением. Для Сологуба существует весь мир, вся нелепость скомканных плоскостей и сломанных линий, потому что среди них ему является преображенное лицо. Он оставляет себе полную радость встречи с этим лицом и, насладившись им, отпускает его обратно — в хаос. Мы же, его читатели, видим это всерадостное лицо только с одной стороны, откуда оно вселяет чувства сострадания, ужаса, уныния, сладострастия. Отсюда — магическое в творчестве Сологуба: он властен показать нам только часть того, что сам видит вполне. Это возможно потому, что полнота его видений всегда лежит далее того, что может быть воплощено в слове. Для Сологуба — Смерть звучит иначе, чем ее обыкновенно воспринимают. Но он позволяет воспринять ее во всяком смысле потому, что он любит всякую свободу, в том числе свободу гражданскую и свободу восприятий. Он позволяет пронзительно жалеть ребенка обиженного, ребенка «с нестерпимой головной болью»; наконец, он позволяет вскрикнуть от сострадания к замученному мальчику, бросившемуся на мостовую с высоты четвертого этажа («Утешение»),