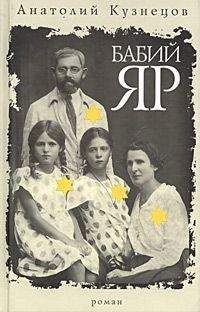Валентина Полухина - Иосиф Бродский. Большая книга интервью
А вы и другие вещи читали, кроме того, что перевели?
О да! Мой бывший студент занят теперь тем, что в довольно большом объеме переводит Хухеля, и он мне все присылает.
На американский?
На английский. Не на американский, а на английский. И поэтому я прочел довольно много Хухеля. Кто еще мне интересен, но совершенно по другим соображениям — Бенн. Замечательный господин. В своем роде.
Но стихи, не биографически?
Да, стихи. Я читал два или три его эссе — для меня это уже слишком, прямо скажем, сугубо местные дела. У него, по-моему, все жены были очень красивые, но последняя жена была очень красивая, я видел фотографию. [Смеется.]
Что-то я насчет жен ничего такого не знала.
Фрау Бенадо до сих пор жива еще, если я не ошибаюсь.
И Рильке, конечно.
И Рильке, да. Но вы знаете, с Рильке у меня были — и до сих пор — замечательные отношения, но примерно лет семь или восемь назад произошло нечто, что поколебало мой энтузиазм по отношению к Рильке. А именно: я прочел Музиля.
Полностью?
Я прочел "Человек без качеств", я прочел "Терлес", разумеется, я прочел "Три женщины". Их по-английски называют "Пять" — там нашли пять коротких новелл. И прочел, по-моему, одну или две пьесы. Что значит — полностью? Это, конечно, не полностью… Сейчас вышли его эссе, на которые я должен написать рецензию, но я ее уже год не могу собраться написать, и еще вышли "Посмертные записки"… "При жизни записки посмертного автора" или "Посмертные записки живучего автора" — не помню, как называется, но что-то в этом роде. Это совершенно замечательный писатель, совершенно замечательная проза, и, кстати сказать, вот эти самые "Записки", эти его короткие эссе — конечно же куда интереснее, чем все, что вы можете прочесть у Рильке. Я этому несколько огорчился, потому что в принципе я всегда считал, что поэт всегда куда интереснее, чем прозаик. Как угодно: метафорически, по ощущению деталей и т. д. и т. д. Музиль куда интереснее, чем Рильке.
А Тракля вы не читали?..
Тракля я читал, но в общем мне это непонятно. Я не понимаю, в чем дело. Из-за чего сыр-бор. Неинтересно.
А Целан?
Целан — это другое дело, но с Целаном произошло… То, что я говорю вам, — это моя точка зрения. Я думаю, что это чрезвычайно одаренный, замечательный поэт. Но он в общем слишком всерьез к себе отнесся — к той трагедии, которая произошла с ним и… Я думаю, что он в известной степени сам как бы загнал себя в угол. Он отнесся к себе слишком всерьез.
А Бахман?
Бахман — замечательная поэтесса.
Все-таки, да?
Все-таки, да.
Я думала, что вам она не нравится из-за свободного стиха.
Нет-нет, она мне ужасно нравится. Ужасно нравится, я даже пытался ее переводить когда-то в семидесятых годах, но так ничего из этого не получилось.
В семидесятых?
— Угу.
А сами вы еще переводите? Я слышала, вы перевели Мандельштама.
Я перевел одно стихотворение Мандельштама, это все несерьезно. Я перевел несколько стихотворений Цветаевой, но это все несерьезно, это опять-таки по необходимости. Я считаю, что переводить должны носители языка, а не я. Я переводил Милоша, я переводил… Да я уже не знаю, чего я не переводил! Кавафиса…
Кавафиса? Тоже?
Да, Кавафиса.
А как, по подстрочникам?
Вы знаете, началось все это с довольно грустной истории. У меня был приятель, который умер от модной теперь болезни, это был Геннадий Шмаков, и он перевел довольно много Кавафиса. И незадолго до его смерти, чтобы его как-то утешить и развлечь, когда он болел, а вернее, умирал, я сказал: давай мы издадим твоего Кавафиса. И я начал немножко переделывать, перерабатывать переводы. С одной стороны, у меня были его переводы, с другой стороны, существует несколько изданий, несколько вариантов его переводов на английский. Кроме того, существуют французские переводы. И тут я понял, что мне придется все-таки или научиться греческому, или, по крайней мере, посмотреть греческий оригинал. Чем я и занялся, и вот как раз в этой квартире я этим года три назад занимался. Около двадцати стихотворений.
А как обстоит дело с американскими переводами Мандельштама, Цветаевой?
Плохо. Их переводят, этим занимается масса людей, с массой энергии, жизни кладутся на это, карьеры, амбиции, но результаты тем не менее все равно плачевные. Я думаю, что это неизбежно.
Это касается и Мандельштама и Цветаевой?
И Мандельштама и Цветаевой. У Мандельштама дела обстоят несколько лучше, потому что его дольше переводят. Цветаева для них, как бы это сказать, — только new craze, то есть новое явление. Но существуют две книжки Цветаевой по-английски. Одна, совершенно чудовищная, — это стихи, которые были изданы в семьдесят втором году, если не ошибаюсь, или в семьдесят третьем. Существует сейчас еще одна — один мой знакомый английский переводчик, тоже достаточно сумасшедший господин, перевел довольно многое на английский. Ну, вы знаете, мне как-то неохота высказывать по этому поводу суждения, потому что я знаю те трудности, с которыми он начал сталкиваться, и мне как-то его даже и ругать не хочется.
Я смотрела, как обстоят дела с немецкими переводами Цветаевой, — лирики почти нет. Проза есть хорошая.
А проза есть уже и по-английски.
Что касается Мандельштама, то, мне кажется, уже хотя бы хорошо, что есть разные переводы.
Да, да. Да.
Но это, может быть, еще обусловлено тем, что переводом Мандельштама занимался Целан и уже тогда каким- то образом направил… С Мандельштамом, мне кажется, все- таки лучше. У нас сейчас вообще планируется полное издание Мандельштама.
Ну, дай-то Бог.
Я все-таки хотела бы еще раз спросить насчет американской литературы и хотела задать вопрос: вы в книге о Венеции пишете, что какое-то пальто носит самый лучший болельщик мира, и это Барышников. А самый лучший американский поэт — это Уолкотт?
Да. [Утвердительно хмыкает.]
А насчет американской литературы я бы хотела спросить…
Ну я не знаю, ну что вы хотите узнать?! Что там есть? Там есть масса людей! Поэзия там довольно замечательная, то есть ничего такого в общем, от чего бы голова кружилась, я вам назвать не могу, но это и необязательно. Там существуют несколько замечательных поэтов, которые мне ужасно интересны, которых мне просто интересно читать. Ну вот, я сейчас это говорю, и у меня такое впечатление, что я вру. Я не вру, это именно так. Прозу американскую я почти не читаю. Мне это просто неинтересно. Мне вообще проза не очень интересна. В общем, — я не знаю, как бы это сказать, — вы говорите с человеком, который находится в стадии не столько потребления, сколько отрицания, то есть отталкивания. Я уже больше не губка. Губка кончилась лет в тридцать — тридцать пять.
А с Сашей Соколовым вы…
Я отношусь к этому писателю чрезвычайно посредственно.
Посредственно?
— Угу.
Я думала, что хорошо все, кроме третьей книги?
Нет-нет. Я до известной степени ответственен за его существование, потому что, когда издательство, которое его напечатало, "Ардис" из Мичигана, только начинало существовать, в семьдесят втором, в семьдесят третьем году, я приехал, выудил его рукопись из всего, что они тогда получали, и посоветовал издателю это напечатать, что и произошло.
Первую книжку, "Школу для дураков"?
"Школу для дураков", да. Первую половину, первые страниц тридцать или сорок мне просто было приятно читать. Дальше это уже в общем ни в какие ворота. Так мне кажется. Это такая в высшей степени провинциальная отечественная идея современной прозы, и, разумеется, есть люди, на которых это производит впечатление. Но так прозу писали в Ленинграде где-нибудь году в шестьдесят восьмом.
А "Между собакой и волком" вы даже не смотрели?
Нет, я смотрел, но результат примерно тот же самый, тот же самый результат в "Палисандре" — это можно посмотреть, но читать это в общем неохота. Я не люблю, когда автор навязывает себя.
Но Юза Алешковского вы выделили.
Юза я хвалил, Юз замечательный писатель, но, увы, последние десять лет дела его как писателя, как сочинителя — в том, что он пишет, а не в том, что он печатает, — идут несколько хуже. Мне это не так нравится. Но есть два романа, две книжки — или, по крайней мере, одна — "Кенгуру", которая, на мой взгляд, является великим произведением.
А вторая?
А вторая — "Николай Николаевич", такая маленькая повесть. Он ужасно смешной писатель. В нем замечательно, что он, как бы сказать, born metaphysician, то есть он природный метафизик, от живота. Не от головы, а от живота. Такое встречается в литературе редко. Уж я не знаю, как это объяснить, но, к сожалению, он старается быть злободневным. Мне не хочется его ни в чем упрекать, но это в общем менее привлекательно сегодня, чем, скажем, десять лет тому назад.