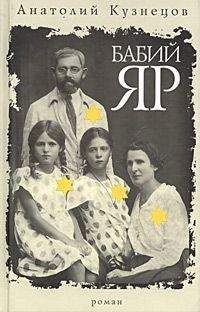Валентина Полухина - Иосиф Бродский. Большая книга интервью
А вы с ним познакомились в Америке?
Я познакомился с ним исключительно по почте, потому что он прислал мне стихи — еще из России. И они на меня произвели довольно приятное, сильное впечатление. Некоторые из них. Я ему ответил. Каким-то уже своим собственным путем, через каких-то своих знакомых, родственников, родственниц, он выбрался в Соединенные Штаты. И когда он там оказался, мы с ним увиделись. Вот и все. Он спросил меня, куда послать, где напечатать. Я сказал, что единственное место, где, как я знаю, печатают стихи и за это даже иногда платят деньги, — это "Континент". Это был тогда, может быть, последний случай моих отношений с этим журналом. Потому что теперь он печатается в Москве.
Но вы не вышли из редколлегии?
Нет, я не вышел из редколлегии, но я сказал Володе [Максимову], что раз уж они теперь печатаются в Москве, то пускай они печатаются в Москве, а я буду давать стихи в какие-нибудь другие журналы. [Вздыхает.]
То есть туда вы уже не будете давать стихи?
Да вы знаете, как-то это бессмысленно… Тогда уже можно давать прямо в "Огонек". Вообще хорошо было бы, чтобы был какой-то журнал здесь. Потому что где ты живешь, там ты и должен печататься, более или менее. У меня сейчас на этот счет какое-то довольно невнятное ощущение. Я терпеть не могу литературной политики.
А почему бы, собственно, вам не делать какой-то журнал самому?
Только вот этого еще не хватало: составлять журнал. Знаете эти стихи Пушкина:
В Элизии Василий Тредьяковский,
Благословясь, принялся за журнал…
Я хотела бы спросить насчет музыки. Меня, как я уже сказала, немножко удивило, что в "Венеции" присутствует Вивальди, а Баха там нет. Вы сказали, что это обусловлено тем, что это Венеция. Вам ближе музыка этого времени, барокко?
Вы знаете, я даже не называю ее барокко, я просто называю это — музыка. Скажем, музыка девятнадцатого века, романтики и т. д. От романтиков и наверх, до нас, — это мне в общем уже как-то в сильной степени безразлично.
А что касается Баха — не играет роли, это гармония или…
Играет, но вы знаете, когда я был в Венеции, в Венеции у меня… Я вам скажу так: я вам сейчас скажу нечто, по-моему, интересное, или мне представляющееся интересным, по поводу Баха. Как мне представляется, Бах — не венецианский композитор, у меня не возникает аллюзий к нему в Венеции, не возникло по той простой причине, что Бах на самом деле для меня, как это ни дико, композитор — я имею в виду, конечно, его "Страсти" — библейский, протестантский. Моцарт — это абсолютно новозаветный лирический голос. Бах — это голос до известной степени ветхозаветный, то есть соотношение между Бахом и Моцартом — это как отношение между, скажем, Периклом и Сократом или до известной степени как между Ветхим Заветом и Новым Заветом. Вот когда они совершили эту большую глупость и расчистили потолок в Сикстинской капелле, возникло довольно дикое ощущение, потому что, когда потолок был темный — а там и на потолке сцены из Ветхого Завета, — существовала какая-то определенная динамика или какие-то определенные соотношения: вот вам Ветхий Завет, он темный, там бу-бу-бу-бу- бу-бу, мы не знаем, что это такое, — и вот вам, значит, Новый Завет, Пинтуриккьо и кто угодно и Рафаэль и все что угодно. А теперь они одинаковые, Микеланджело и все, что внизу, — одинаково ярко и одинаково видно. Понимаете, о чем я говорю? То есть отношение между Бахом и Моцартом — это как отношение между хором и тенором. И Венеция — это в общем скорей все-таки город тенора. Но это такие бредовые мои разговоры, это то, что существует в моем сознании. Но я помню, когда я впервые услышал "Страсти", у меня возникло абсолютно библейское ощущение.
Когда это было?
Ну я не знаю — мальчишкой, в России еще.
Но как ни странно — он протестант, но, несмотря на это, написал мессу…
Ну да, конечно, конечно, конечно. Но это такие дела. Грубо говоря, с волками жить — по-волчьи выть. [Смеется.)
Но мне кажется, что Моцарт — есть в нем что-то такое легкое и венское — в отличие от Баха. Он какой-то… камень такой.
Конечно, но, с другой стороны, не надо это и отделять. Я не думаю, что это следует приписывать городу, хотя можно, может быть надо, приписывать городу, культуре, в которой ты родился. Это просто другое мироощущение. Да, наверно, да… наверное, Вена. Но я думаю, когда мы говорим "Вена", мы смотрим на Вену сквозь призму Иоганна Штрауса?
Но в принципе вас больше привлекает оркестровая музыка?
Вы знаете — да! Я обожаю квартеты и трио Гайдна, и у Моцарта то же самое, и у Баха то же самое, совершенно у него замечательна эта музыка для виолончели. Бессмысленно говорить, я сейчас называю одно, другое… В общем, иерархии нет, иерархии нет.
А Бетховен?
Это хуже. То есть для меня…
А камерная музыка?
Камерная музыка? Фортепьянные сонаты на меня производят довольно удручающее впечатление. Он совершенно замечательный, Бетховен. Но в сонате всегда есть вторая часть, где он старается быть остроумным. Иногда это совпадает, иногда это замечательно. Но мне кажется, что из этих сонат надо среднюю часть, этот юмор, убирать — и играть две. Мне не хочется вычислять его психологию, почему он все это так делал, но очень часто возникает ощущение колоссальной несовместимости этих его вторых частей в сонатах.
Медленных?
Нет, наоборот, они как раз быстрые. Они скорее allegri, чем что бы то ни было. Замечательное laigo и в первой части, то есть я говорю laigo условно… Замечательная музыка идет. И потом — пам-пум-пум-пум — начинается.
А виолончельные сонаты вы знаете?
Да, знаю. Ну что я вам могу сказать? Разумеется, когда мы говорим о композиторе, мы говорим о нем в целом, да? А не про отдельные его произведения. Отдельные произведения могут быть совершенно замечательные. Их можно обожать, но такой кумулятивный эффект, такое суммарное ощущение от Бетховена у меня несколько меньше. Суммарно Бетховен мне куда менее интересен, чем суммарно Гайдн, или суммарно Моцарт, или суммарно Бах. Или Перголези, или кто угодно.
Когда я была в Ленинграде, я как раз слышала эти виолончельные сонаты Баха, исполненные на гитаре, что меня совершенно поразило, потому что они связываются все-таки с определенным исполнением.
Ну да.
А после, то есть девятнадцатый век, там Шуман, Шуберт.
Вы знаете, к Шуберту мы хорошо относимся, к Шуману несколько менее. Мы хорошо относимся отчасти к Малеру.
И очень хорошо исполняете, между прочим.
А к кому мы еще хорошо относимся? Мы хорошо относимся к… Ну я, например, хорошо отношусь к такому французскому композитору Анегеру, да? Анегер.
A, Honegger!
Ну, может быть, он Хонеггер, может, он уже немец совершенный, — хотя вряд ли. Гораздо хуже и безразличнее я отношусь… ко всем остальным: к Равелю, ко всей остальной публике. К двадцатому веку в общем я отношусь довольно посредственно. Меня это в общем не интересует. Пум-пум-пум, знаете вот, как всегда. А это на меня не производит впечатления. Я ничего не постулирую, я не настаиваю ни на чем, но, с другой стороны, для меня это все-таки некоторая загадка: вот я, например, человек двадцатого века, и для меня реальна музыка, скажем, восемнадцатого или семнадцатого века — она для меня существует. Если бы взять музыку двадцатого века и перенести в семнадцатый век — стали бы ее там слушать?
У меня еще вопрос об иронии, но это можно и по- другому назвать. Можно не говорить "ирония". Вы это очень часто называете "смотреть со стороны". Но мне кажется, что все-таки это близко к иронии. Могут быть сегодня стихи без этого?
Конечно. Безусловно. Это должно где-то проскальзывать у автора, он должен дать почувствовать, что он человек современного сознания. Но это он может продемонстрировать чем угодно — он может продемонстрировать это в рифме, а не в содержании. Конечно, можно.
То есть это для вас не…
…нет, не-е-ет. Я думаю, что у меня есть некоторое количество серьезных стихов.
Нет, я не имею в виду, что ирония — это несерьезно, но все-таки у вас, по-моему, есть приблизительно три струны, которые держатся на высоком тоне, и их значительно труднее переводить.
Безусловно.
Когда вы все время перескакиваете на другой регистр…
Нуда.
…это намного легче, чем когда они постоянно держатся на одном регистре.
Ну да.
Я хотела бы еще спросить об американской литературе и о немецкой тоже, если можно. Об американской, наверное, слишком много нужно говорить.
Да, действительно очень много. Может, лучше о немецкой? Знаете, кто мне ужасно интересен? То есть кто на меня произвел хорошее впечатление? Хухель. По-моему, замечательный поэт.