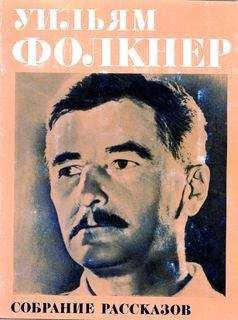Николай Анастасьев - Фолкнер - Очерк творчества
Затем борьба переносится в сферу духа, в область подсознательного.
О "Шуме и ярости" в мировой критической литературе исписаны сотни страниц; чаще всего говорили, что автор этого романа испытал явную зависимость от философских концепций времени, разработанных Анри Бергсоном, от учения Фрейда. Разумеется, философские, как и художественные, веяния эпохи, ее поиски и сомнения коснулись писателя. В его собственной «теории» времени как "текучего состояния" слышатся отголоски метафизических построений Бергсона, у которого сказано: "Чистая длительность есть форма, которую принимает последовательность наших состояний сознания, когда наше я активно работает, когда оно не устанавливает различия между настоящим состоянием и состояниями, им предшествовавшими" (курсив мой. — Я. Л.).[30]
И все-таки обычно (за редкими исключениями, вроде "Притчи") Фолкнер оставался больше художником, чем чистым мыслителем. "Когда я жил в Новом Орлеане, — вспоминает он, — все толковали о Фрейде, но я так и не прочитал его. Не читал его и Шекспир. Сомневаюсь, чтобы Мелвилл читал его, и уж наверняка этого не делал Моби Дик".[31] В этой шутке заключена немалая доля истины. Возвращаясь к "Шуму и ярости", видим: вовсе не просто феномен сознания, измученного борьбой со временем (хотя и он тоже, в том и трудность), интересовал автора — ему важно понять и исторические корни надлома, иначе и попытка выстоять будет заранее обречена на провал.
Зачем мысль Квентина в лихорадке, урывками, чтобы тут же оттолкнуться (техника потока сознания здесь используется вполне уместно и точно), забирает в себя эпизоды встреч с Кэдди — движения ее, поступки, фразы, бессвязные, рвущиеся посредине? Затем, чтобы слепить как-то осколки прошлого, восстановить его, а значит — найти себя, выжить, спастись. "Нельзя победить время" — и герой гонит воспоминания, точнее, они отлетают от него сами по себе, уступая место прозаическим фрагментам настоящего (комната в университетском общежитии, шум поезда на стрелке, мастерская часовщика, пикник с однокашниками), но сами же, ускользающие, и приходят назад. Однако удержать их невозможно — это мираж, "облако, промелькнувшее в зеркале". Особенно сильно, зримо выражено столкновение не отпускающего ни на мгновение прошлого с сиюминутным и преходящим в сценах путешествия Квентина по окрестностям Кэмбриджа. Здесь ему встретилась полуголодная девочка-итальянка, которую он угостил в кондитерской конфетой и которая с того момента неотступно следует за ним. Она ни слова не говорит по-английски, и эта простая и такая житейская деталь вдруг наполняется символическим смыслом: язык нынешних времен герою невнятен. Потому, физически оставаясь рядом, девочка и исчезает все время, а ее место, повинуясь внезапным ассоциациям, занимают другие фигуры: Кэдди, Бенджи, отец, мать, негры компсоновского семейства. А их, в свою очередь, грубо и неизбежно вытесняют персонажи нынешнего. Бессильный избавиться от них, бессильный связать воедино время, Квентин кончает жизнь самоубийством.
Герой этот представляется нам на протяжении одного лишь дня своей жизни, но как ни короток этот отрезок времени, он вместил в себя и всю его судьбу, и более того — судьбу людей его класса — с их объективной обреченностью, неумолимо продиктованной ходом истории, с их лихорадочным — ив общем, тоже обреченным- стремлением противостоять предопределенности, и, наконец, с их смирением перед нею. Все в том же послесловии к "Шуму и ярости" Фолкнер назовет это смирение "любовью к смерти".
Многозначительная эта, обладающая авторитетом итоговости, формула заставляет вспомнить известную статью Сартра, написанную еще до появления автокомментария к роману. В ней, между прочим, говорилось: "Приближающееся самоубийство бросает тень на последние часы Квентина, оно находится вне пределов человеческого выбора. Ни на одну секунду Квентин не может подумать о возможности остаться в живых. Самоубийство — это дело предрешенное, нечто такое, к чему он слепо идет, даже и не желая и не осознавая этого".[32]
Как экзистенциальный мыслитель, Сартр, конечно, не может представить себе человеческую судьбу вне ясно обозначенного выбора. К тому же, выстраивая свою модель человеческого существования, философ извлекал личность из конкретной общественной среды, противопоставлял ее решительно окружающему миру, помещал ее в некоторое, теоретически исчисляемое пространство, в котором "ад — это другие". В подобных условиях человеку и предлагалось сделать выбор, и им неизбежно оказывалась смерть.
Ясно, что художественная стихия "Шума и ярости" много богаче той схемы, той экзистенциалистской «ситуации», критериями которой Сартр пытается оценить книгу. Критика его оказалась не адекватна именно потому, что «ситуация» Сартра прежде всего универсальна, ситуация же Фолкнера — исторически обусловлена. Человек Сартра (будь то безымянный персонаж трактата "Бытие и ничто", либо названный Рокантеном герой романа "Тошнота") — это личность вообще, человек Фолкнера — это представитель определенного общественного класса.
И все-таки вовсе от критических соображений, изложенных в статье "Время у Фолкнера", не отмахнешься. Сартр обрубил социальные корни (история падения старого Юга) романной идеи, и тем самым обеднил, конечно, содержание книги. Но он был и прав, утверждая, что Время у Фолкнера изначально враждебно человеку, независимо от его социальной принадлежности. Жизнь, какой она показана глазами Квентина Компсона, дает ясные тому доказательства. Слишком уж мучительны его переживания, слишком хаотичен мир его чувств, в тисках слишком трагических антиномий бьется его мысль, чтобы объяснить все это только тоской по ушедшим временам расцвета. Тут чувствуется нечто более глубокое и всеобщее. Оно и проявляет себя неожиданным «выравниванием», прояснением повествовательной стихии, когда в ней возникают устрашающие формулы Времени.
Сартр пишет: "Абсурдность, которую Фолкнер находит в человеческой жизни, помещена туда им самим".[33]
Это не так, сложная социальная история американского Юга не придумана Фолкнером, просто пережита им с мучительной страстностью; изломанное, не находящее идеала во внешнем мире, сознание людей типа Квентина, — не просто воплощение кошмаров, мучивших писателя, но и историко-психологическая реальность (разумеется, воплощенная с крайней степенью художественного преувеличения).
Но это и так: абсурдность бытия доведена в романе до такого градуса, что ограничить его рамками одного только Юга невозможно."…В ней много слов и страсти, нет лишь смысла".
У Достоевского Парадоксалист, герой "Записок из подполья", говорит: "Я уверен, что человек от настоящего страдания, то есть от разрушения и хаоса, никогда не откажется. Страдание — да ведь это единственная причина сознания". Проблема творческих связей Фолкнера с наследием Достоевского огромна, она только начинает еще у нас ставиться,[34] и здесь нет возможности даже обозначить разные ее аспекты. Мне только одно важно отметить: при всех различиях в отношении к личности, к страданию, к судьбе, Фолкнер, как и Достоевский, затем и ставит человека в исключительно сложные обстоятельства, чтобы тот "постоянно доказывал самому себе, что он человек, а не штифтик! хоть своими боками, да доказывал, хоть троглодитством, да доказывал".
Впоследствии Фолкнер скажет об этом с совершенной определенностью: "Я думаю, что некоторое количество страданий и бед только полезны людям".[35]
Снова возвращаясь к Сартру, можно добавить: "абсурдность, которую Фолкнер находит в человеческой жизни", играет еще в "Шуме и ярости" роль некоего лакмуса: выстоит ли человек, выдержит ли могучее давление извне, давление Времени?
Пока — не выдерживает. История, «рассказанная» Бенджи, убеждает: победить Время бессознательностью, простой отключенностью от него, — невозможно. Та же история, повторенная Квентином, даже с еще большей непреложностью свидетельствует: Время не преодолеешь и апелляцией к идеалам былого. Путь, избранный незадолго до того героиней «Сарториса» — мисс Дженни, — не срабатывает более.
Но ведь и это не конец истории. Ее снова пришлось пересказать, говоря словами автора, "уравновесить, что и сделал третий брат, Джейсон".[36]
Стиль повествования здесь упрощается, эмоциональная безудержность уступает место расчетливости, практицизму, деловитости. В текст книги входят вроде совсем чуждые ее поэтике понятия: "В полдень на двенадцать пунктов понижение было", "вечером пересчитал деньги, и настроение стало нормальным", "к закрытию курс биржи упал до 12.21, на сорок пунктов". Соответственно, и история, здесь излагаемая, — обретает иные, вполне конкретные, реально-экономические, можно сказать, измерения. Но ведь это все та же, уже хорошо знакомая нам история — просто если Бенджи она явилась в обличье трагически-бессознательном, а Квентин этот трагизм осознал, то Джейсон Компсон свел ее к вполне прозаической схеме: полагая, что несчастьем своим (а потеря места в банке для него — истинное горе) он обязан Кэдди, герой кропотливо, упорно, по крохам компенсирует эту утрату. Тут хороши любые средства — прямой обман (деньги, которые Кэдди пересылает на имя своей дочери, Квентины, дядюшка присваивает себе) и шантаж (по отношению к все той же Кэдди), крупная игра на бирже и мелкие надувательства.