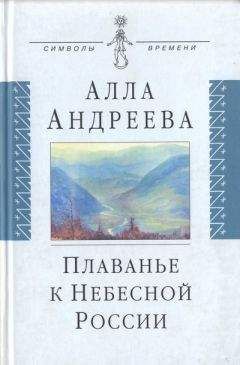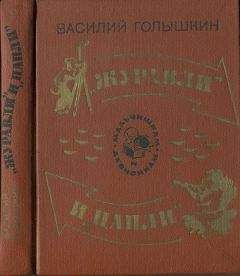Борис Романов - Путешествие с Даниилом Андреевым. Книга о поэте-вестнике
Ну что ж, еще большим чудаком в Руме казался наш поэт.
Мы прочли и «Зеленою поймой», и «Лесную кровь», обсуждая, где мог быть кордон с домом лесника, упоминавшийся в «Лесной крови». Вдова поэта Алла Александровна утверждает, что ее героиня выдумана, но Потупов горячился, доказывая, что она жила где‑то рядом. Лозов заметил, что кордон мог быть недалеко, между Чухраями и Румом.
Чтение стихов здесь было особенным, слова звучали не чеканно — звонко, как в помещениях, отражаясь от стен, а с вольной распевностью, соединяясь с лесной тишиной, с подрагиванием костра, бледного в свете дня, с неслышной Неруссой, с выкошенными лужайками, с недальним зарастающим озером, даже с негромким гоготом рыбаков — картежников.
Мы поели ухи, в углях пеклась картошка. Лозов, держа кружку в ладонях, сидел на корточках у дымящегося костра. С другой стороны полулежал с неизменной сигаретой задумчивый Вадим. Я читал. Рядом торжественно стоял Потупов. Лазарев нас снимал.
Пока занимались ухой, читали стихи, рядом в траве, у самой кромки осыпчатого берега, пугливо затрепыхался птенец ласточки — береговушки. Он выпорхнул, видимо, нами вспугнутый, из гнезда и забился, пытаясь, но не умея взлететь. Встревоженные родители метались над Неруссой, под — летали к нему почти вплотную и вновь уносились, боясь людей. А птенец был вынужден волей — неволей слушать стихи и наши разговоры. Ничего, уедем, тогда родители его выручат. Так сказал Лозов, предупредивший, что трогать птенца нельзя.
Уха оказалась вкусной, с дымком. Ее отведал и подъехавший Сергей.
Лозов тщательно собрал весь мусор, сложил в пустую пачку куримой им «Примы» все наши окурки. И мы отправились, грустно оглядываясь на Неруссу. Уже в дороге вспомнили, что с ухой, птенцом и стихами забыли о печеной картошке, оставшейся в золе, и долго о ней жалели.
По пути в Трубчевск решили завернуть на Девичоры.
Когда едешь по незнакомым лесным дорогам, не успевая следить за поворотами, то кажется, что сам ты сюда второй раз не доедешь — заплутаешь. В брянских лесах заблудиться легко.
Вначале мы выехали к большому бревенчатому дому в соснах, стоявшему над озером из васнецовской сказки, изукрашенным кувшинками и кубышками. Это дом отдыха для какого‑то начальства. Мы вышли из машины, чтобы полюбоваться поблескивающим затоном и, спускаясь к нему по нахоженной среди расступающихся деревьев тропке, встретили двух егерей. Разговор с ними завелся о заповеднике и опять о его директоре. Нам, посторонним, понятно было только одно, что и в лесу те же, вполне человеческие, страсти и заботы. Егеря подсказали, как лучше выехать на Девичоры, и по петляющей по лесу, колдобистой, а то почти пропадающей в траве, но дороге мы добрались туда, куда не сумели попасть в начале пути.
Я в Девичорах был в позапрошлом году, поздней осенью, но места этого теперь не узнал. Тогда мы, участники Андреевских чтений, еще дольше петляя по сырым дорогам, с трудом сюда добрались, предводительствуемые Николаем Георгиевичем Тихоновым, трубчевским краеведом. Он партизанил мальчишкой вместе с отцом в здешних местах. Нас было много. Нестройной толпой с городской улицы мы вылезли из автобуса и растянулись по голому лесу, молчащему над озером на увалистом берегу. Владимир Борисович Микушевич, со своей изысканной писательской палкой, библейской седой бородой и красноречивыми репликами был и тут как дома. Он вглядывался своими глубоко сидящими, немигающими глазами в замершее в зеленовато — коричневых прутьях лозняков озеро, в застывшие черные стволы, подступившие к противоположному берегу, и сочинял стихи, прочитанные нам следующим же утром:
Девичоры, глухие, грибные места,
Берег озера продолговатого,
Где вода между крупных кувшинок чиста —
Ясный глаз Божества тороватого…
Никаких кувшинок видно не было, берег шелестел под ногами тусклой, перегоревшей листвой, потрескивал костерок, на котором хозяева делали шашлык из сала, разливалась в пластмассовые стаканчики водка. Девичор Даниила Андреева мы (я‑то определенно!) в том сыром ноябре не разгля дели. Да и не бывал он в здешних местах осенью! И больше всего любил летние лунные ночи. В одном из писем тех лет сообщал: «…когда начнутся лунные ночи, я уйду на целую неделю в леса…» В лунную ночь тут привиделись ему и языческая богиня, и темная ворожея:
Там, на глухих Дивичорах,
Где пропадают следы —
Вкрадчивый шелест и шорох
Злого костра у воды.
И в непонятном веселье,
Древнюю власть затая,
Варит дремучее зелье
Темная ворожея…
К этому стихотворению он сделал сноску, называя Девичоры Дивичорами, в скобках и Дивячорами, а озеро пересыхающим. Какие «отоснившиеся поверья» об этом месте он слышал, нам не узнать. Но кажется, что андреевское Дивичоры более правильно. И само название пришло из времен, когда слово дивий значило — лесной, дикий, а слово дивачить — чудесить и странничать.
Правда, нам, любящим слышать то, что хочется, мнятся в этом слове и девы, и дивы, и чары, и даже чаруса и чур. Все это легко увидеть в Девичорах, в небольшом, но глубоком и ясном озере, вобравшем в себя не только высокую синь и тесно обступившую темной стеной зелень, но и забытые были, и придуманные небыли.
Пройдя по зарослям вдоль берега, мы вышли на заросший травами — щавелем, винником, тысячелистником, с возвышающимся над всем стройным дудником — взгорок над водой, где Потупов радостно обнаружил нетронутый остов шалаша, в котором он с Лозовым ночевал в прошлом году. Об этой ночевке он нам не раз с восторженным удовольствием рассказывал.
Удивительна в Евгении Васильевиче Потупове, невысоком бородаче с открытым русским лицом и прищуренным взглядом, эта восторженность и редкая любовь к поэзии и поэтам. Она как‑то сочетается в нем с практической хваткой, с врожденным журналистским умением говорить со всеми. Если бы не он, не было бы, конечно, никаких Андреевских чтений на Брянщине, вряд ли мы все увидели бы то, что увидели в наших торопливых, но незабываемых пробежках по следам поэта.
Рядом с каркасом шалаша из высохших, с облупленной корой торчащих веток мы остановились, привычно разлили водку, произнесли возвышенные тосты, чокнулись и поехали назад, в Трубчевск. Путешествие закончилось.
Недолго побыв у Лозовых, мы, уже втроем, во главе с Потуповым отправились (у него везде оказывались приветливые знакомые) на ночлег в одно, как он выразился, «музыкальное» семейство. Музыкальное и гостеприимное семейство жило на дальнем конце Трубчевска, в кирпичном просторном доме, с садом — огородом. Хозяину под пятьдесят, он преподает в музыкальной школе — играет на гармони, а улыбчивая жена работает в леспромхозе, в конторе, но — поет. И дети их, сын и дочь, пошли по музыкальной части. Хозяйка усиленно угощала, мы беседовали, но нас, плохо выспавшихся, утомленных, настойчиво смаривало. Эту ночь мы впервые за все наше путешествие спали не под комариный гуд, на хрустящих белизной простынях.
ОтъездУтром нас щедро, как, наверное, когда‑то Даниила Андреева в доме Левенков, потчевали свежим медом из недавно заведенных ульев, оладьями со сковородки и огурцами с грядки, собственной малиной и черникой, вчера только собранной в лесу ловкой хозяйкой. А дальше день побежал дорогой назад, когда впечатления стали комкаться инерцией возвращения.
Зашли к Саше, забрали вещи из гаража, и он довез нас до автовокзала. Автобус покатил в Брянск.
Я вдруг представил, как Даниил Андреев уезжал домой в Москву из Суземки. Однажды Алла Александровна Андреева вспомнила рассказ мужа о том, как из Суземки уезжали Коваленские, тоже проводившие лето в Трубчевске. Поезд там ждали иногда по трое суток, стоял он недолго, минуты две, надо было успеть влезть в вагон. А тут на перроне перед входом стояли два мужичка. Коваленский отчаянно прыгнул прямо между ними, и те вдруг повалились, как деревянные куклы. Наверное, это было смешно, — рассказывая, Даниил Леонидович смеялся. Но возвращающегося в Москву из Трубчевска героя своего романа он заставляет пережить осенней ночью страшное железнодорожное крушение. Действие «Странников ночи» происходит в 37–м году.
Поезд наш в Москву уходил около полуночи, и, побывав в гостях у Потупова, напившись чаю, мы пошли, им ведомые, по Брянску. Пришли на брянский детинец на «живородном» холме, или на Покровской горе, как его еще называют, где на коне замер князь в шеломе, кольчуге и, как поведал знающий историк, с женским украшением, повешенным увлекшимся скульптором князю на грудь. А рядом сидит юный Боян и глядит в дебрянскую, деснянскую синюю даль. И как здесь было хорошо! Лесные дали открывались сразу за нестройными городскими улицами. Рядом на взгорье стояла Горне — Никольская церковь, красоту которой портила, правда, новая, добротная, но безвкусная ограда, стояли старинные пушки на лафетах, цвели клумбы с цветами, светило июльское солнце. Напротив желтел скромный дом. В нем когда‑то у своего дяди, инженера «Арсенала», лившего эти орудия, рассказал Потупов, гостил Паустовский.