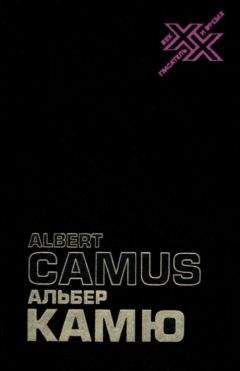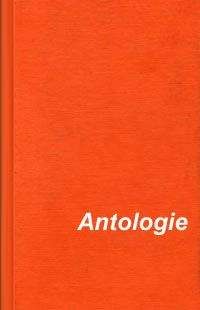Michael Berg - Веревочная лестница
И все-таки поэтический талант Пушкина весьма вероятен.
Ночью Собакевичу снился сон: будто открывает он дверцу шкафа, скрипящую, словно подагрический сустав, и видит в шкафу Собакевича с рожей, как буфет. «Ты кто?» — спрашивает Собакевич. «А ты кто?» — отвечает Собакевич. «А вот я тебя!» — говорит Собакевич и вынимает изо рта Собакевича с рожей, как буфет. Маленький Собакевич, стоящий на ладони, вытаскивает из кармана спичечный коробок, раздвигает ему ноги, а там тоже сидит хмурый Собакевич, с угрюмой пергаментной гримасой на лице, и даже бровью не ведет. «Ты посмотри на себя в зеркало,— говорит Собакевич,— на кого ты похож?» — «Ну, и на кого?» — спрашивает Собакевич с рожей как буфет. «На буфет, — отвечает Собакевич, — то есть — на Собакевича».
Тут от сквозняка открылась форточка, хлопнула об раму, как в ладоши, и Собакевич проснулся. Полежал, шевеля во рту распухшим ото сна языком, а затем пришла тяжелая деревянная мысль: «Собакевич есть Собакевич есть Собакевич есть Собакевич — ну и что?»
Просеивая имена через мелкое придирчивое сито сознания, удалось удержать только одно: заговор бездарностей.
Разве дело в названии, которое, как считают одни, всегда одежда с чужого плеча и, как готовое платье, одновременно впору всем, но сидит по-хамски? Разве дело в шляпе? — спрашивают другие, зная, что при желании можно надеть любую, надо только достать. Правда, в былые времена, давая пощечину, утверждали, что не нравится линия носа (вывеска), или кидали перчатку, сетуя на форму лица. Средневековый ремесленник вывешивал сапог над дверью, и все понимали, что он хочет этим сказать.
Чехов, мысля литературными критериями, утверждал, что название проходит по произведению красной нитью, то есть оно позвоночник либо венозная жила. Однако, хотя литература и предъявляет авторские права на жизнь, намекая на свое первородство, подобное мнение спорно, ибо рельеф местности, переплетенный с временнуй координатой, дает свою тень. Кому-то кажется, что название — ахиллесова пята, кому-то, что оно — маслянистое географическое пятно на поверхности лужи.
Один полулиберальный редактор столичного журнала рассказал мне о проведенном эксперименте: своим коллегам, которые служили беспроволочными предохранителями, он подсовывал на рецензию тексты разной литературной значимости, и — о чудо! — подчеркнутыми брезгливым красным карандашом оказывались одни и те же места, в которых авторы пытались вырваться за пределы нормативно-суконного вкуса. Любое необычное выражение или неординарный образ (даже если он был единственным в безликом тексте) безошибочно гипнотизировали собратьев по несчастью, привлекали их внимание и засасывали, как водоворот.
Предлагаемое определение, кажется, успешно конкурирует с другими, если иметь в виду распространение его действия с частного случая на географию шестой части школьного глобуса.
Что есть наша жизнь? Оппоненты представляют ее в виде огромного пресса, загоняющего свою суть в глубь пористого, как пемза, с множеством невидимых глазу лакун и ходов, сознания.
Однако в этом определении есть неувязка. Получается, что активен только давящий пресс, — воспринимающему материалу отводится пассивная роль статистов. С этим трудно согласиться. Дело в том, что при действительно висящем, точно дамоклов меч, прессе воспринимающая функция статистов неодинакова и распределяется по особому закону. В соответствии с ним представители «горациевой золотой середины», которые-то и участвуют в заговоре, не просто заинтересованы в существовании пресса, а притягивают его, как полюс магнитную стрелку, усиливая, увеличивая давление.
Но, определив закон существующих сил поверхностного натяжения как «заговор бездарностей», имеющий место благодаря круговой поруке высовывающихся шестеренок, мы как бы поставили точку над «i». Но что такое «i» — это пока вопрос.
Мотальщица цеха № 7 фабрики «Большевичка» Коробочка К. К. была матерью-героиней с рождения. Родилась она не в рубашке, как некоторые, а в синих капроновых чулках, прозрачных, словно литературные реминисценции, так как ноги у нее были волосаты. Будучи мотальщицей по призванию, Коробочка с самого начала все мотала и мотала себе на ус, причем не просто мотала, как все мотают, а по системе: сначала нитка цеплялась за большие пальцы ног, а затем за большие пальцы рук, за мизинцы ног, за мизинцы рук, и так далее; самый кончик нити Коробочка брала в рот, прикусывая ее молодыми здоровыми зубами, затем все выворачивала наизнанку. Получался кокон. На производстве эти коконы очень ценились, и Коробочку ставили всем в пример: в цехе № 7 она висела на Доске почета как ударник труда. Жила Коробочка в том же самом нитяном коконе, как на жилплощади, вместе с коммунальными соседями и своими десятью детьми, ибо, конечно, она была наседкой и высидела своих детей из яиц. Эти яйца вместе с целлофановым мешочком ей сунул кто-то в последний момент, перед тем как она родилась. Так и появилась она на свет — с целлофановым мешочком в руках, в синих капроновых чулках, чтобы скрыть волосатость ног, и тут же начала мотать кокон, ибо была мотальщицей по призванию.
Когда у Карамзина спросили, каким словом он бы определил современное положение русского общества, поэтичнейший историк наш ответил: «Крадут!» Русский характер напоминает болото — сверху мелкая травка незначительных черт, студенистое тело, расползающееся при кропотливом исследовании, и дно, которого не только не видно, но и невозможно прощупать. Чаадаев, первым умудрившийся взглянуть на Россию со стороны, не увидел ничего и посчитал, что Россия еще не существует. Он посмотрел сквозь прозрачное стекло, поставленное под углом к свету, и удивился размытому отражению. Пленочная аберрация — откуда она взялась? Чаадаев наложил на чистый лист русской равнины кальку готически строгой и конечной европейской жизни, и оказалось, что, по сути, сравнивать не с чем. Сплошной «туманный Альбион»: куда ни брось взгляд, везде одно и то же, пустынная морская гладь спереди и сзади, слева и справа. Западное существование деятельно, элегантно, реактивно, архитектонически выстроено — и понятно. Русский быт, если смотреть сквозь замочную скважину, производит отталкивающее впечатление: мелкие черты плотностью заполнения пространства напоминают офорты Босха — это какой-то вавилон лени, горизонтального безделья, косности, широкости (о которой особенно любят посудачить кумушки европейского письма) и разгульной неконструктивности, озадачивающей самих жителей еловой равнины.
«Всякий знает, что такое человек русский,— писал Достоевский из Эмса,— из тех особенно, которые имеют ежедневно дело с публикой: это нечто сердитое и раздраженное, и если не высказывается иной раз раздражение видимо, то затаенное, угадываемое по физиономии. Это нечто высокомерное и гордое, как Юпитер. Особенно это наблюдается в самой мелкой букашке, вот из тех, которые сидят и дают публике справки, принимают от вас деньги и выдают билеты и проч. Посмотрите на него, вот он занят делом, “при деле”: публика толпится, составился хвост, каждый жаждет получить свою справку, ответ, квитанцию, взять билет. Вы добились, наконец, вашей очереди, вы стоите, вы говорите — он вас не слушает, он не глядит на вас, и он обернул голову и разговаривает с сзади сидящим чиновником, он взял бумагу и с чем-то справляется, хотя вы совершенно готовы подозревать, что он это только так и что вовсе не нужно ему справляться. Вы, однако, готовы ждать — вот он встает и уходит. И вдруг бьют часы и присутствие закрывается — убирайся, публика!
Сравнительно с немецким, у нас чиновник несравненно меньше часов сидит во дню за делом. Грубость, невнимательность, пренебрежение и главное — мелкое Юпитерство. Ему непременно нужно высказать вам, что вы от него зависите: “Вот, дескать, я такой, ничего-то вы мне за баллюстрадой не сделаете, а я могу все, что хочу, а разозлитесь — сторожа позову и вас выведут!” Ему нужно кому-то отмстить за какую-то обиду, отмстить вам за свое ничтожество.
Здесь в Эмсе, в почтамте сидят обыкновенно два, много три чиновника. Бывают месяцы, во время сезона, в которые толпятся приезжие тысячами, можно представить, какая переписка и какая почтамту работа. За исключением каких-нибудь двух часов в день на обед и проч., они заняты сплошь весь день. Надо принять почту, отправить ее, тысяча человек приходит спрашивать poste restante или об чем-нибудь справиться. Для каждого он пересмотрит целые вороха писем, каждого-то выслушает, каждому-то выдаст справку, объяснение — и все это терпеливо, ласково, вежливо, и в то же время с сохранением достоинства... По приезде в Эмс, я долго не получал нетерпеливо ожидаемого мною письма и каждый день справлялся в poste restante. В одно утро, возвратясь с питья вод, нахожу письмо у себя на столе. Оно только что пришло, и чиновник, упомнивший мою фамилию, но не знавший, где я живу, нарочно справился о том в печатном листе для приезжающих, в которых обозначаются все прибывшие и где они остановились, и прислал мне письмо экстренно, несмотря на то, что оно было адресовано poste restante (до востребования), и все это единственно потому, что накануне, когда я справлялся, он заметил чрезвычайное мое беспокойство. Ну, кто из наших чиновников так сделает?»