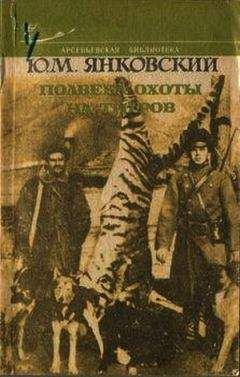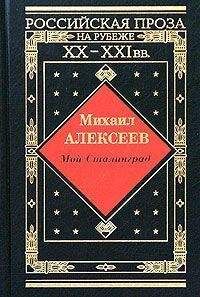Юрий Черниченко - Хлеб
Ишь как!.. След в документе? Не-ет, это нашему ловкачу не пройдет. Потому что ни разу и нигде в рапортах не говорилось, сколько в заготовленном собственно хлеба и сколько — занятого на время (пусть так) у ферм. И гнев сверкнет со стороны своего же брата председателя, который сам сдал и фураж, и позиции и другому не даст «вывяртываться»!
На роль Куркова утвержден актер товстоноговского театра Юрий Демич. Ладный сложением, динамитный темпераментом, щеголеватый (родятся такие, хоть «куфайку» надень — будет «фирма»), но горожанин полнейший, ни молекулы сельского. Затащил его к себе домой — хоть коротенько рассказать, что Курков с тем фуражом теряет. Говорит — «не надо». Опрятно и аппетитно ест, пересмеивается с партнершей Надей Шумиловой (им придется «пожениться», никуда не денешься), но мотает головой: «Не надо. Я был». Где был-то? «В Тюмени. На нефтепромыслах был и видел», — «Юрий Александрович, это совсем не то». — «То. Самое то, уверяю вас».
Председатель Курков, этот супермен-счастливчик, плачет, бьется головой о капот, считая отъем зерна пожаром, опустошением души, — Демича актерская воля. Виктор Карачунов, посмотрев картину, сказал: «Если б все так переживали, ни одного бы здорового председателя уже не было». Что ж, зрительское право. Но я видал, как оставленные в зиму без фуража смеются, хохочут, гогочут, — и это, честно сказать, позабористее слез.
Алтай, осень семьдесят девятого. Год здесь не только не сухой, а почти урожайный: где четырнадцать, а где и пятнадцать центнеров берут. Вкалывает народ до петухов. Кошкин в совхозе «Степной» никогда за два часа ночи не забирается, но Семен Вдовин молотит и до шести. Потом часов с девяти утра вяло, обессиленно возится у «Нивы», чтобы с одиннадцати опять пойти — до нового света. И так суток по сорок! Останется ли фураж — вовсе не бухгалтерское, а социальное кулундинское дело. Получат зерно на заработанные рубли; фермы — это работа женам; пойдет строительство… Зерно Кулунде — как вода Араратской долине. Каждая тонна фуража — это подпорка цистерне-другой алтайского молока: ведь миллион тонн молока вынь да положь! Засуха миновала, но хлебно-фуражный баланс как еще обойдется?
На этот баланс вызывают первых секретарей райкомов. Середина дня, у белой лестницы в крайкоме — группа знакомых степняков. Завьяловский секретарь только что оттуда и, протирая очки, бодрясь, рассказывает притчу. Александр Македонский взял город и шлет солдат: «Ну, что они там?» — «Плачут». — «Тогда ищите, трясите — есть!» Вояки бросаются снова — и правда, находят и золото, и прочее. «А теперь как?» — «Смеются!» — «Кончай, ребята, больше нет ничего».
— И мы смеемся! Семнадцать процентов фуража оставлено — это ж свиней побоку, птицеводство по ветру, а налаживали сколько — одну, думаете, пятилетку?
Уже другой выходит, из Топчихи, лихорадочно достает сигарету, та прыгает в его пальцах, говорит: «Девять процентов» — и после затяжки излагает историю. Как Александр Македонский взял город, как там плакали, а потом стали смеяться.
Сочувствующий круг и тот хохочет. Табуны, Родино, Благовещенка, сама Кулунда — всем по Македонскому, и на каждого достает громогласного смеха. Засуха юга никого там не оставила без тридцати — сорока процентов фуража, а Алтай-батюшка выговаривает: «Семнадцать… девять». Сообщено, что в Оренбуржье, за саботаж заготовок (т. е. отстаивание тех самых цифр, что в промфинплане) сняты руководители таких-то и таких районов. Исключение потом заменят строгачом, но это уже не работник…
Смех — расставание с прошлым. Но что-то уж долго смеются!
И я что-то долго читаю рацеи в очереди на элеватор…
Есть, впрочем, край и праву на вымысел!
Первое. Не я пригласил — меня привезли к элеватору: Недилько прояснял, как тут создана очередь. Очередь — это универсальный инструмент понижения запросов. Очереди не возникают, это суеверие: их делают. Долго ждешь — ты рад сдать зерно рядовым, к черту прибавки за сортность, за силу, по ячменю — за годность на пиво. «Рядовым принимать, все рядовым!» — велят хлебоприемному пункту Высшие Интересы Ведомства, а накачка в райкоме жару поддала, а сводка лупит по всем по трем — так строй их в очередь, умный заготовитель!
Секретарь хоть воздаст приемщикам — к коллективной шоферской радости.
Второе. Не я озарил Недильке петлистые пути хлебосдач, а он меня методично, все длинные пятилетки знакомства, просвещает и наставляет. Если фермы Армавирского коридора при вечном биче эрозии дают на корову в среднем больше, чем теперь доит малахитовое Подмосковье, то, значит, в науке о фураже давний секретарь имеет негласную докторскую степень.
Третье. Не я привез на Кубань кино о продразверстке, а Недилько выхлопотал у генерального директора «Мосфильма» пленку раньше всех премьер, а я был при ней прилагательным. И до всесоюзного показа с положенными миллионами зрителей и гвоздиками «России», «Ударника», «Октября» были тысячи безбилетников в станицах Прочноокопская, Советская, Бесскорбная. Явное финансовое нарушение, но виноват тут местный райком.
Итак, юбилей место имел. Он проведен на государственный счет, и теперь при элеваторе — заговенье.
Хлебный баланс — кривые дороги… Нет здесь у нас с Недилько двух мнений, потому что он сдает — ему и мнить, а мне слушать. Правда, даже одно мнение (Андрея Филипповича) часто выражено быть не может, ибо получится, что он ищет легкой жизни, а жизнь, известно, надо искать потяжелее, стараться так загнать себя, чтобы никакого выхода вроде бы не было. Тогда — да-а, а без трудностей какая работа?
На благодатной Кубани сто колхозов и почти столько же совхозов ныне убыточны — вот до чего достарались.
А в чем мы расходимся — говорить незачем. Потому что в своих взглядах я не прав и поверхностен, а Андрей Филиппович всегда доказателен и прав. К примеру, Андрей Филиппович считает, что Карачунова от частника надо защищать расточением песца и арбуза, то есть их корыстных производителей. А я ошибочно полагаю, что надо столько Виктору платить, сколько он стоит. Что у колхозов нету людей — это предрассудки и заблуждение, говорю я: оплаты нет такой и тем, чтоб на комбайн тянуло. Андрей Филиппович обоснованно говорит, что, пока не накормим развитое общественное поголовье, транжирить корма на частника нельзя, а я, нахватавшись верхушек, заладил — какая, мол, разница, колхоз ли, колхозник, — а раз меньше корма тратит на быка или утку, так и давать ему молодняк и корм без попреков, а случится — и медаль тому частнику выправить, пускай перед анонимщиком погордится.
Срок придет, и я увижу, как глубоко был не прав. Но надо жить долго и беречь здоровье.
Въезжая в Прочный Окоп, мы с шофером Ашотом шарахаемся от прущей, как зубр, пожарной машины. Горит? Где, что, скорей…
— У Карачуна в звене комбайн, позвонили… Та не, не наш, то хто-сь с приезжих. Казали — как свечка! — живописует охранница при гараже.
Этого еще не хватало! В середке что-то оборвалось и никак не поднимется. Летим в бригаду. Только-только село солнце. Наверно, издали факел увидим. Чего доброго, еще в огонь начнут кидаться, наделают беды. Читать, как за тонну еле сляпанных железок человек погиб, человек двадцати годов от роду, не хватает воздуха и злости. Хозяин и работник ни писать, ни читать про такое не станут. Чудовищное невежество, черствость — или перенос категорий войны? Но не ровен час — из кабины не успел выбраться, ведь дверь-то к самому двигателю, а он и загорается первым!
Но кто ж горит-то? Пожарники толкутся, гутарят возле «Нивы» Толи Лазебного, варяга-удальца, а тот мирно, деловито выгружает из бункера зерно.
— Это я горел. Медаль за спасение на пожаре положена, — дурашливо тычет себя в грудь. — Вон как разукрасили двигун! Три огнетушителя вылили. Понимаете — зад стало жечь, оглянулся — ночь в Крыму, все в дыму…
Ломается, дурачок, реализует выказанную смелость. А парень такой ладный, что торс, что голова белокурая… Представить, как полыхает, что уже и дверь кабины не распахнуть, — и опять в середке что-то обрывается. Черт знает какая связь между теми полутора тоннами зерна, какие этот Толя получил еще дома, и его поведением, повадкой, самооценкой, но — орел, храбрец, лейб-гвардия!
Виктор узнал про пожар даже позже пожарников: Федька разнес, интересно.
Молотили мы до одиннадцати, отгрузили 29 июля двадцать восемь бункеров — годовую норму потребления пятидесяти шести человек. Это, потом оказалось, был рекордный день за всю историю Прочного Окопа: 359 гектаров убрали за день, намолотили 1294 тонны зерна.
Спать надо, но и реализовать юг тоже. Сходить на берег, минуту постоять под звездами, поздороваться с Орионом, наскоро, не теряя дна, искупаться в опасной Кубани.