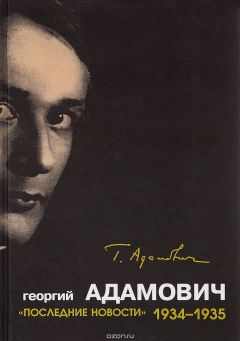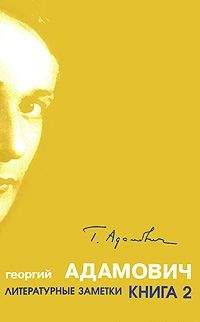Георгий Адамович - Комментарии
Достоевский необычайно «интересный» писатель, и есть какое-то странное — и стоящее того, чтобы над ним задуматься! — соответствие между полицейски-авантюрной занятностью его фабул и тревожным, дразнящим изобилием затронутых им «проблем». У одного дух захватывает от любопытства, кто убил старика Карамазова, или сознается ли Раскольников, у других от того, можно ли вернуть билет на право входа в жизнь или что именно символизируется банкой с пауками, но глаза горят, книга зачитывается «до дыр», ночь проходит без сна. Конечно, и над «Анной Карениной» ночь порой проходит без сна. Но едва ли с тем же голым любопытством, едва ли с волнением, вызванным какой-либо особенно животрепещущей «проблемой». Алэн, большой французский философ, тончайший аналитический ум и, притом страстный почитатель Толстого, сказал о его мыслях: «…ces robustes pensees de l’age de fer»… И совершенно верно: железный, даже каменый век! В природе нет «проблем», нет личности, свободы, большевизма, всеобщей ответственности, государственной необходимости, европейской культуры, «страны святых чудес» и прочего и прочего, а два-три вечных, как сама природа, вопроса не поддаются ни развитию, ни разработке, и притом всё-таки несут в себе всю мировую поэзию, всё искусство от первого дня до последнего. Неизвестность остается в точности такой же, какой была тысячи лет тому назад и какой будет через другие тысячи лет. В промежутке можно, разумеется, заниматься «проблемами», и даже не только можно, но и необходимо, — поскольку человек в истории живет, от нее страдает и с ней связывает свои надежды. Еще раз скажу: нелепо и бесчестно для среднего человека пофыркивать на историю, бежать от нее и от ее неурядиц, прикрывая бегство мнимой преданностью мнимым высшим, «единым на потребу», интересам. Но когда раз в столетье является человек, естественно обращенный лишь к «самому важному», нельзя и не почувствовать своего перед ним ничтожества.
(Не могу отказаться от кавычек при слове «проблема». Иностранные слова законны и необходимы, особенно в языке еще не вполне сложившемся, но от «проблем» веет чем-то слишком уж книжным, интеллигентским, приват-доцентским. Дурное слово, не само по себе дурное, а будто развращенное дурным и часто никчемным употреблением! Один видный философ-богослов читал несколько лет тому назад в Париже публичную лекцию, озаглавленную «Проблема рая»! Ну, как после этого не почувствовать к «проблемам» отвращения!)
XXXVIII.
В сущности, Достоевский в русской и даже в мировой литературе — только эпизод.
Но революция, война — тоже эпизоды… И сразу вместе с этим внезапно мелькнувшим сопоставлением возникает, врывается другая мысль: как жаль, какое неповторимое несчастье, что он не дожил до наших дней! Никто в мире не в состоянии теперь сказать того, что сказал бы он — о человеке, об одиночестве, о потере всех прав и всех опор, о нищете, и не только нищете материальной, а об исчезновении всяких обязательств, о горестном счастье, с этим связанном, о грубости и безразличии окружающего, о тупой жестокости истории… Есть, правда, сейчас один писатель, который на эту тему набрел, писатель, у которого чутья больше, чем дарования, — Ремарк в «Триумфальной Арке». Но Ремарк, увидев и наметив тему, лишь скользнул по ней, да если бы это и не было так, где же у него силы, чтобы с ней справиться?
Тут нечего было бы описывать, не о чем рассказывать. Нет, я представляю себе Ивана, который на эту тему поговорил бы с Алешей, и те слова, которые нашел бы Иван, чтоб растолковать всё случившееся раз навсегда, в предостережение будущему, как будто еще не к тому готовому. Достоевский оказался бы в области, где у него нет соперников,
он один попал бы в верный, нужный тон, его горячечный пафос вырвался бы на этот раз из самых глубин его духа, а если бы будущее, по всей вероятности, и прошло мимо, «не моргнув», то всё же осталось бы утешение, что кто-то хоть попытался его расшевелить, остановить, в уровень с веком, с ужасной темой века! Ну да человек бывает в положении, когда он никому не нужен и не может никому принести пользы. Что же из этого? Для того ли была культура, развитие, философия, всё прочее, дивная наша музыка, для того ли… ловлю себя на желании перефразировать незабываемую страницу Леонтьева об Александре Македонском «в пернатом своем шлеме» и о прочих величиях, кончившихся гражданином в «куцом пиджачке»… для того ли, чтобы прийти к заключению, что такой человек действительно только обуза и нечего с ним считаться? Для того ли две тысячи лет тому назад в вспыхнул пожар, чтобы при последних его догорающих угольках невозмутимо связывать мораль со статистикой и одно выводить из другого? И притом с передержками, с недомолвками и малодушной боязнью провозгласить во всеуслышание то, что таится в уме? Ну, да, может быть, действительно есть «нисходящий» класс и есть «восходящий». Что же из этого? Если те, которые «восходят», хотят действительно до чего-нибудь довзойти, не следовало ли бы им задуматься о цене и оборотной стороне восхождения? О том, что всё-таки нет масс как неделимого целого, а есть миллионы отдельных воль, стремлений и возможных страданий? О круговой поруке перед неизбежностью смерти и о том, как «бестиален» культ большинства, силы, молодости? О том, не разлетится ли при рубке весь лес в щепки? О том, стоит ли игра свеч?.. Я только начинаю бередить тему, и уже, как бирюльки, вопрос тянется за вопросом.
Человек до наших дней не отдавал себе отчета, что такое общество. Как неизменно бывает в благополучные времена, он жил среди декораций и, не имея случая испытать их прочность, не догадывался, что они из картона. Но декорации, очевидно подгнившие, разлетелись при первой же буре, и истина обнаружилась, и притом не только в обнаженном, полном, трагическом виде, как в России, но и из-под еще держащихся обломков и лохмотьев, как здесь, на Западе. «И от судеб защиты нет». Нам, русским, это дано было узнать ближе, чем кому бы то ни было, и в этом смысле мы могли бы кое-что сказать остальному миру. Но еще раз, еще раз, еще раз, как жаль, что нет Достоевского! История ошиблась, поторопилась выпустить его на полстолетия раньше, чем следовало бы. Он один нашел бы в наши дни вдохновенье для новых «записок» из нового «подполья», которые краской стыда легли бы на целую эпоху и на столь дорогое ей понятие прогресса.
Остракизм, которому подвергнут Достоевский в советской России, принято объяснять его реакционными взглядами. Но корень советской вражды к Достоевскому, несомненно глубже. Из реакционера сделать передового, бодрого, свободолюбивого деятеля в Москве, когда нужно, умеют, и недалеко ходить — Гоголя к юбилею там препарировали так, что от его реакционности, да и от всех его мучений и сомнений, не осталось и следа. Над Достоевским, во внимание к его всемирной славе, было бы проделано то же самое, если бы не этот беспокойный, взрывчатый его склад, который опаснее консерватизма. Удивительное замечание Толстого, — по-моему, самое проницательное, что о Достоевском вообще было сказано, — «в нем есть что-то еврейское» — вспоминается сразу, как продолжение и подтверждение догадки. Евреи, до известной степени были и остаются эмиграцией человечества, с теми же темами, теми же обидами и укорами.
XXXIX.Мережковский: «Они нас ненавидят, и они нас боятся».
Они — это, конечно, европейцы, Запад. Мережковский утверждает, что ему давно уже приходится сталкиваться с глухой неприязнью к России, и что отношение это вовсе не ново и выходит далеко за пределы теперешней политики. По привычке своей он сгустил краски, «нажал педаль», притворно ужасаясь ненависти и боязни. Но за ораторской игрой было и верное чувство.
Действительно, неприязни ко всему русскому на Западе много. В частности, через все пренебрежительные оценки, через отрицательные рассуждения о России проходит одна мысль: Россия ничего оригинального не создала, она всё заимствовала у других. Это было одним из основных доводов Чаадаева, об этом писал маркиз де Кюстин в книге, возведенной теперь в «пророческие», и где при несомненном уме и остроте взгляда есть и изрядная доля невежества, лжи и вздора. А с тех пор это повторяется на все лады. Даже Тургенев в «Дыме», раздраженный слепым и наивным русским мессианизмом, несколько опрометчиво присоединился к общему хору. В России будто бы нет ничего, полностью ей принадлежащего, кроме варварства, рабства, тьмы и в лучшем случае какой-то нигилистической жажды всё стереть с лица земли ради неясных будущих свершений.
Не будем сейчас спорить «по существу». Согласимся, что действительно русская цивилизация в последние два века была кое в чем слепком с цивилизации европейской… Но она-то сама, эта новая европейская культура, полностью ли она самостоятельна и оригинальна? Всё то, чем она живет, ею ли единственно и создано? В вопросе этом нет никакого злорадства, нет и тени полемической запальчивости. Наоборот, Европа была и остается для нас «страной святых чудес», тысячу раз я готов повторить это, но, с совершенной искренностью кланяясь ей, храня в сердце бесконечную ей благодарность, позволительно вспомнить всё-таки, что и ей самой есть кого благодарить за уроки. Весь смысл культуры — в преемственности, в отказе от национальных «авторских прав», и нельзя, не сойдя с ума, требовать в этой области оригинальности во что бы то ни стало. Новая Европа ничуть не теряет своей «святости» от сознания, что она не только творила, а и перерабатывала. Но пусть и за нами признает она право на переработку.