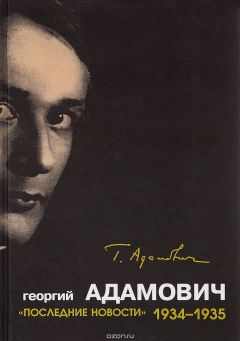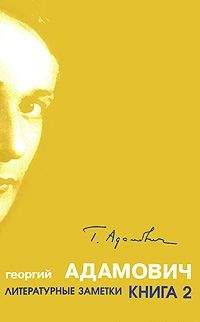Георгий Адамович - Комментарии
Перечитывая Чаадаева.
Не много на свете книг, которые выдерживают второе или третье чтение без того, чтобы не вызвать разочарования. Казалось мне, чаадаевские «Письма» — одна из таких книг. Но нет, есть в них всё-таки что-то «салонное», пусть и в самом высоком смысле этого слова. Есть что-то преувеличенно надменное, нарочито-ледяное и леденящее, чуть-чуть декламационное. Обвинительный акт России надо было бы написать иначе, в более русском складе, возможном даже при том условии, что Чаадаев писал по-французски. Надо было бы написать его изнутри, а не в позе постороннего наблюдателя.
Но действует до сих пор, и неотразимо действует, глубокая грусть, которой письма проникнуты. Действует музыка, в них звучащая, — не совсем, может быть, русская, но настоящая, и редкого качества… Это Чаадаеву зачтется, это останется за ним навсегда. После него всё-таки мало кого из русских мыслителей можно вспомнить, не чувствуя падения, разве что Герцена, — да и то не целиком, а преимущественно те его страницы, где он не столько «борец за светлое будущее», сколько стареющий, чуть ли не во всем усомнившийся человек. Или Конст. Леонтьева.
Удивительно, что Россия становится тем ближе, чем суровее и притом вернее суждения о ней. Русский «квасной» или какой бы то ни было иной патриотизм, русское бахвальство и самоупоение нельзя выдержать. От Батюшкова с его постыдным сверхквасным афоризмом о Кремле, этом будто бы «прекраснейшем месте на земном шаре, в прекраснейшем городе, принадлежащем величайшему в мире народу», от Гоголя с его злосчастной тройкой до нынешних советских вариаций на те же мотивы и темы, всё это ничего, кроме тошноты, не вызывает, — тем более, что меры русский человек, как известно, ни в чем не знает, и уж если почудилась его расстроенному воображению удалая тройка, то должна она опрокинуть решительно всё на свете. И наоборот, едва только услышишь отрицания, вроде чаадаевского, или вроде полюбившихся Мережковскому печеринских строк:
Как сладостно отчизну ненавидеть…
хочется сказать: да, может быть, а всё-таки… И эти «всё-таки» уходят так глубоко, что упреки теряют значение. Защитительные доводы, сталкиваются, дополняют, обгоняют друг друга, пока мало-помалу не добираются до самых начал человеческой жизни: да, верно, то плохо, и это сомнительно, но черновик нации, культуры, общества был набросан, как, пожалуй, нигде больше, замысел был такой, как ни у кого другого, и в догадках о несостоявшихся реализациях есть все-таки основания для преданности и даже гордости.
Замысел провалился, что тут спорить (или по Бердяеву, почти всегда искажающему и как бы компрометирующему свои простые и верные мысли своим дурным стилем: «то, что Бог думает о России…»)! Но было в замысле этом что-то широкое, свободное, вольное, доброе, не разрушительное, а только беспокойное, как бы от сознания, что нельзя достичь ничего, на чем стоило бы успокоиться. Чаадаев судит о России с высоты многовековой, величавой и по-своему удавшейся цивилизации. Но ему и в голову не приходит спросить себя: что в этой цивилизации, носящей имя христианской, осталось от христианства? И даже больше: возможно ли соединение понятий «культура» и «христианство» без того, чтобы одно не истлело в пламени другого? И возможен ли выбор?
XXXIV.
Колебания, конечно, этим и вызваны: не удалось почти ничего, но хотели-то мы больше того, что удалось сделать другим. Или, по крайней мере, мечтали о большем… Если мы и вправе гордиться, то не тем, чего мы добились, а лишь тем, что мы хотели и чего не могли сделать, то есть высокой неосуществимостью русских стремлений, невозможностью воплотить их в государственных и социальных формах.
Упоенный собою русский именно тем и жалок, что этого не понимает и при тяжбе с Западом уверен в своем реальном, ощутимом, осуществленном превосходстве. «Где им, всякой там немчуре и французишкам, до нас!» — Кто же этого не слышал? Кто не уловит в нынешних московских восхвалениях родины того, что существовало и прежде, но что прежде вызывало усмешку? Крайности всегда сходятся, и тройки, по-разному запряженные, с разными ямщиками на козлах, мчатся по родным раздольям всё те же. Еще недавно, здесь, в эмиграции, Шмелев только этим и дышал, и жил. Шмелев казался очень русским писателем, уж таким русским, что «русее» и не бывает, а на деле он при своем — для меня несомненном и большом таланте, при своей страдальческой искренности, — был отступником и вел от имени России запоздалую, измельчавшую, выдохшуюся славянофильскую игру, которая ничем, кроме конфуза, кончиться не может. По-своему он любил Россию – «до самозабвения», по собственным своим словам. Но любил, так сказать, беспрепятственно, сам себя обманывая, и о каком ни говорил бы он величии, величию этому грош цена.
Впрочем, можно и совсем по-иному объяснить, почему нестерпим упоенный собой русский человек. Но это и тема совсем другая, с уклоном скорей к психологии, чем к истории.
Беседуя с французом, немцем, англичанином или американцем, мы не так хорошо его понимаем, как понимаем русского. Язык и возможные затруднения в его оттенках тут решающей роли не играют, и даже, если логический смысл речи вполне ясен, что-то в «обертонах» ее ускользает. Скажите что-нибудь плоское и пустое русский: иностранец, пожалуй, не поморщится, как сразу поморщимся мы, — и, наоборот, к фальши французской, немецкой, всякой другой, окажемся именно мы, а не иностранцы, менее чувствительны. Французские водевили, например, французские шаловливые песенки многим из нас нравятся, а всё русское в таком же роде ничего, кроме тоскливого недоумения, не вызывает… Может быть, действительно, французы в этой своей специальности искуснее нас, может быть, они легче и бойчее нас остроумничают, допустим, но дело не в этом. Дело в том, что сквозь отечественную русскую пошлость мы отчетливее улавливаем кое-что из убожества вечного и общечеловеческого. Нас ничто не отвлекает от ее созерцания, и по звуку голоса, усмешке, по какой-нибудь вскользь брошенной прибаутке мы безошибочно восстанавливаем целый, во всех мелочах нам знакомый, удручающий мир, будто по одному позвонку — целого мамонта. А с французом или американцем мы позвонок держим в руке, не зная, откуда он и куда его отнести. Конечно, и чужеземная кичливость бывает досадна сама по себе. Но кичливость русскую воображение невольно дополняет душком из былых истинно русских чайных, со всеми их достопамятными атрибутами…
От того-то, вероятно, русское самодовольство отталкивает нас сильнее всякого другого, независимо от вопроса, где для него больше оснований. И, — продолжая мысль, — не в этом ли слухе к соотечественникам ключ ко всему гневному и презрительному, что писал Байрон об англичанах, Шопенгауэр о немцах или Бодлер о французах, вплоть до Розанова, признававшегося, что случается ему содрогаться при одном упоминании о русских? Пессимизм рождается от столкновения с людьми, насчет которых не может остаться иллюзий. По справедливости следует сказать, что и хорошее в близких по языку и крови людях яснее, чем в других.
Писатели, в особенности романисты психологического и бытового типа, поступили бы благоразумно, если бы взяли за правило рассказывать преимущественно о соотечественниках. Клюква бывает разная, от смехотворно-нелепой до едва уловимой, и как бы ни был правдоподобен внешний облик, некоторая внутренняя схематичность в изображении людей, в иных условиях сложившихся, дает себя знать почти неизбежно. Слепок грубее, приблизительнее. Даже в «Войне и мире» французы (капитан Рамбаль, например, не говоря уж о Наполеоне) — не вполне живые люди вне той таинственно-естественной атмосферы, в которой движутся остальные толстовские герои.
XXXV.
Молодой человек, который в двадцать лет или даже раньше, прочтя Достоевского, не был бы потрясен «до мозга костей», не был бы ранен как будто в самое сердце, не ходил бы сбитый с толку, недоумевающий, измученный тысячью сомнений, такой молодой человек должен бы внушить недоверие. Конечно, не о всех молодых людях речь. Существуют прекрасные, добрые, честные молодые люди, так сказать «спортивного» склада, с которых никакие потрясения не спросятся. Но я говорю о тех, с которых «спросится».
Нет писателя, который лучше, чем Достоевский, выразил бы и полнее дал бы почувствовать отсутствие правды в мире, боль жизни, всё-таки, порой слишком острую, чтобы с буддийским спокойствием отнести ее к явлениям естественным. Правда — слово расплывчатое: что есть правда, «что есть истина?» Что такое справедливость? Но точного определения быть и не может… Что-то «не то» и «не так» в жизни, частью по вине людей, частью независимо от них, и, значит, ни по чьей вине. Достоевский это уловил. От Достоевского сводит скулы, пересыхает в горле, и вовсе не после какого-либо отдельного его рассуждения, нет, а от общего, ужасного неблагополучия представленного им мира. В молодости именно к этому неблагополучию сознание чувствительно: оно его не предвидело, оно еще не утратило своей детской доверчивости. Молодой человек останавливается в тревожном изумлении: как, неужели это и есть жизнь? Откуда всё это? Как же мне в такой жизни участвовать? Как исправить, можно ли помочь? Да, это первое, ни с чем не сравнимое впечатление от Достоевского благотворно и неизбежно, если только у молодого человека живая душа. Да, да, бесспорно…