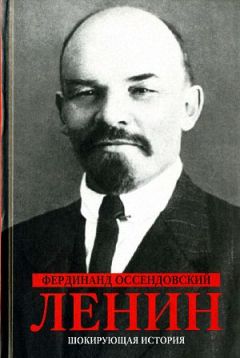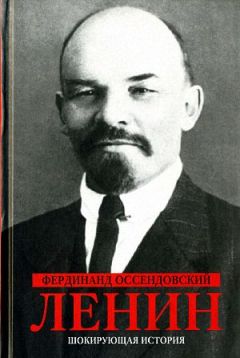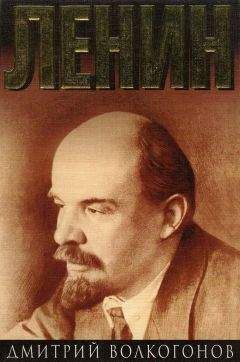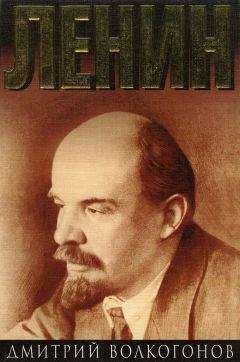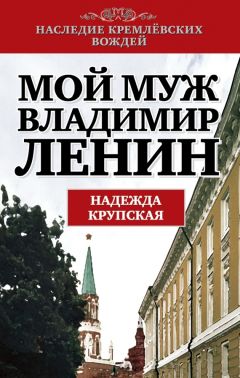Жорес Трофимов - Волкогоновский Ленин (критический анализ книги Д. Волкогонова “Ленин”)
...Конец Советской власти казался недалеким. Тем более, что началась настоящая охота на комиссаров. В Петрограде эсер Леонид Канегиссер выстрелом сражает Моисея Урицкого; в июле убит белогвардейцами Семен На- химсон, известный комиссар латышских стрелков. Комиссар продовольствия Туркестанской республики Александр Пер- шин погиб от рук мятежников в Ташкенте. В мае 18-го Федор Подтелков и Михаил Кривошлыков, известные большевики Дона, гибнут на белоказачьей виселице. Бывший генерал-лейтенант царской армии Александр Таубе, перешедший на сторону революции и ставший начальником Сибирского штаба, попал в руки белогвардейцев и был замучен. Но самый страшный удар в 1918 году контрреволюция нанесла в Москве. После выступления Ленина перед рабочими завода Михельсона в него стреляла эсерка Фанни Каплан”.
Из картины боевого 18-го года (остались, правда, за кадром убийство 20 июня комиссара Петросовета В. Володарского и др.) прекрасно видно, почему именно Советская республика была вынуждена той порой прибегать к ограничениям демократии, вводить чрезвычайное положение и отвечать на белый террор красным террором. Теперь трехзвездный генерал-демократ все эти события трактует совершенно по-иному и даже заключение Брестского мир^ 3 марта 1918 года он отваживается ставить в вину руководству Советской России. А ведь недавно, подобно JI. Фишеру, Дмитрий Антонович восхищался величием Ленина, сумевшего добиться подписания мира с Германией и тем самым спасшего молодое Советское государство.
Жалкое впечатление производят попытки Волкогонова доказать, что для Владимира Ильича Николай II, как и все другие “носители монархической системы”, были давно “вне закона”. “Почему?” — задает вопрос генерал-пасквилянт и сам же отвечает: “Прежде всего потому, что царизм уничтожил его старшего брата”.
Но и эти рассуждения — тоже досужие домыслы. Во- первых, Ленин нигде и никогда не говорил, что все Романовы для него стоят “вне закона”. А, во-вторых, целью Владимира Ильича была не месть за брата, а борьба с царизмом за лучшую долю, и он навсегда остался верен своей юношеской клятве идти иным, нежели любимый брат, путем борьбы с самодержавным деспотизмом.
Обвиняя Ленина чуть ли не во всех смертных грехах, Волкогонов в книге “Ленин” заботливо обеляет “демократов”, в частности, действия руководителя Свердловского обкома КПСС по выполнению решения ЦК партии от 26 июля 1975 года о сносе особняка Ипатьева (в котором были расстреляны Николай II и его семья): “Секретарем обкома в Свердловске (Екатеринбурге) был тогда Б. Н. Ельцин. Ему было поручено депешей из Москвы ликвидировать особняк Ипатьева. Указание было выполнено. И Ельцин,— продолжает Волкогонов,— и все мы были тогда послушными коммунистами...”.
Далее генерал заявляет, что “цареубийство — традиция варваров, продолженная большевиками”. Он не поясняет, кого он понимает под “варварами”. Однако не лишне было бы здесь вспомнить, что сами члены царствующих фамилий России не раз являлись соучастниками убийств своих родственников. Припомним, например, обстоятельства перехода престола к Б. Годунову, или от Петра III к Екатерине II, или убийство Павла I царедворцами, совершенное не без ведома его наследника Александра...
И последнее. Если уж Волкогонов выдает себя за гуманиста, в принципе осуждающего террор, разгоревшийся “с обеих сторон” в 1918 году, то этично ли было в книге о Ленине высказывать варварски-чудовищное сожаление, что выстрелы, адресованные “к вождю Октября” были “менее удачливы”, чем у других “расстрельщиков”? И эта кровожадность трехзвездного генерала особенно отчетливо проявляется в сюжете “Выстрелы Фани Каплан?”[13], разбор которого требует специального разговора.
Спекуляция на Фани Каплан
Первые попытки физического уничтожения лидера большевиков предприняло Временное правительство уже в июле 1917 года, и Владимиру Ильичу тогда же пришлось уйти в подполье. Генерал-философ в связи с этим в книге о Сталине (1990, кн. 1, ч. 1, с. 71) с осуждением повествовал: “В мемуарах В. Н. Половцева, бывшего члена Государственной думы, в частности, говорится, что офицер, посланный в Териоки задержать Ленина, спросил его:
— Как доставить этого господина — в целом виде или по кускам? Я ответил ему с улыбкой, что люди, которых арестовывают, часто совершают попытку к бегству...”.
В двухтомнике “Ленин” Дмитрий Антонович уже не вспоминает об этом вероломстве. Напротив: не скрывая, он сожалеет о том, что последовавшие в 1918 году попыти покушения на жизнь главы Совнаркома тоже не удались. Пересказывая об обстреле 1 (14) января 1918 года автомобиля, в котором Ленин вместе с сестрой Марией Ильиничной и Фрицем Платтеном ехали в Смольный на встречу с отрядом, уезжавшим на фронт, Волкогонов замечает: “Кузов был продырявлен в нескольких местах пулями... Обнаружилось, что рука Платтена в крови. Пуля задела его, когда он отводил голову Ленина... По всей видимости, о выступлении Ленина в манеже знали и покушавшиеся подготовили засаду. Но в тот раз пронесло...” (с. 404). При этом пасквилянт, естественно, ни словом не обмолвился ни о смелости Владимира Ильича, разъезжавшего по митингам в то тревожное время без всякой охраны, ни об удивительной для революционера гуманности.
А ведь когда через неделю управляющий делами Совнаркома В. Д. Бонч-Бруевич сообщил о ведущемся расследовании покушения, Владимир Ильич спросил: “А зачем это? Разве других дел нет? Совсем это не нужно. Что тут удивительного, что во время революции остаются недовольные и начинают стрелять?.. Все это в порядке вещей. А что, говорите, есть организация, так что же здесь диковинного? Конечно, есть. Военная? Офицерская? Весьма вероятно”,— и он постарался перевести разговор на другие темы. Не без влияния Бонч-Бруевича следствие все же добралось до трех молодых офицеров — непосредственных участников покушения на главу Советского правительства. “По логике вещей все главные виновники покушения,— рассуждал Бонч- Бруевич,— должны быть немедленно расстреляны, но в революционное время действительность и логика вещей делают огромные, совершенно неожиданные зигзаги...”. Окончательное следствие по делу этих офицеров совпало со взятием немцами Пскова и публикацией ленинского воззвания “Социалистическое отечество в опасности”. Содержавшиеся под арестом офицеры-террористы письменно попросили отправить их на фронт для участия в боях с иноземными захватчиками. Владимир Ильич тут же распорядился: “Дело прекратить. Освободить. Послать на фронт”.
Поразительную “забывчивость” проявил дважды доктор наук в подглавке “Выстрелы Фани Каплан?” Вопреки нормам научной этики, он даже не упомянул об основной литературе по этому вопросу. А ведь только в Политиздате в 1983 и 1989 годах выпускался сборник документов и материалов о покушении на жизнь Владимира Ильича 30 августа 1918 года “Выстрел в сердце революции”. Совершенно умолчал Дмитрий Антонович и о тех “сенсационных” статьях, которые появлялись в печати за годы горбачевской “перестройки” и ельцинской “демократии”.
Необходимо отметить, что большинство этих публикаций являются перепевами давно известной истории с вкраплением “жареных” фактов, почерпнутых из эмигрантской литературы. Но наш философ-историк наверняка читал очерк ташкентского юриста Е. Данилова “ Три выстрела в Ленина, или за что казнили Фани Каплан”, опубликованный в петербургской “Неве” (1992, № 5, 6), и даже кое-что из него заимствовал. Не прошла мимо внимания Дмитрия Антоновича и большая публикация Е. Данилова “За что казнили Фани Каплан?” в “Огоньке” (1993, № 35-36), которую редакция сопроводила сенсационным сообщением о том, что ее автор, юрист из Ташкента, “впервые побывал в следственном управлении МБ РФ и первым из пишущих взял в руки папку с коротким названием “Дело Фани Каплан”. В действительности же название на ней отнюдь не “короткое”: “Следственное дело по обвинению Каплан Фани Ефимовны, а всего 15 человек, в покушении на жизнь Ленина”.
Истины ради замечу, что я, наверное, раньше, чем Данилов, познакомился с этим делом, которое в начале 1992 года находилось уже в Центральном музее им. В. И. Ленина. В этом же учреждении, как мне передавали сотрудники Музея, знакомился с содержанием дела и Волкогонов. Но как бы то ни было, он, издавая в 1994 году (спустя год после публикации Данилова в “Огоньке”) книгу “Ленин”, не имел морального права писать в ней, что якобы первым получил доступ к документам и материалам о покушении 30 августа 1918 года. И тем не менее Дмитрий Антонович счел возможным присвоить себе лавры первооткрывателя, заявив читателям книги “Ленин”: “С помощью архива КГБ просмотрим некоторые документы. Помощник военного комиссара 5-й Московской Советской пехотной дивизии Батурин (надо — Батулин. — Ж. Т.) письменно показал Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией следующее: “В момент выхода тов. Ленина из помещения завода Михельсона, в котором происходил митинг на тему “Диктатура буржуазии и диктатура пролетариата”, я находился от товарища Ленина на расстоянии 15—20 шагов”.