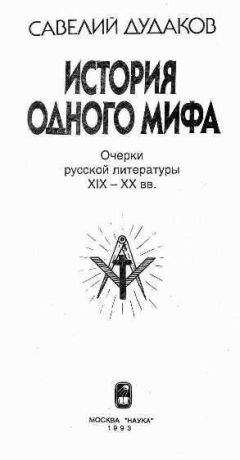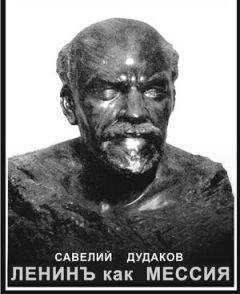Савелий Дудаков - Этюды любви и ненависти
Толстой о Дымшице: "Вот еврей! Заявил, что он как христианин (по своим христианским убеждениям) служить не может. Как это военная служба и христианство могут вместе существовать? Желал бы жить 300 лет". На недоуменный вопрос собеседницы: "Почему?" Л.Н. ответил: "Чтобы видеть, что будет. Что останется из двух: военная ли служба, христианство ли"120.
Из друзей-евреев Толстого Валентин Булгаков выделяет троих: И.Б. Файнермана, Г.М.
Беркенгейма и В.А. Молочникова. О Файнермане я уже рассказывал.
Владимир Айфалович Молочников (1871-1936), житель Новгорода, толстовец, с весьма редкой для "паразитической" нации профессией – слесарь и не соответствующим социальному статусу интеллектом. Переписка Молочникова с Толстым началась в 1906 г., личная встреча произошла в Ясной Поляне 31 декабря 1907 г. 7 мая 1908 г. Молочников был осужден на год Петербургской окружной палатой за хранение толстовской литературы. За пропаганду пацифистских идей и отказ от воинской службы его еще несколько раз арестовывали. Толстой, несмотря на преклонный возраст, даже собирался ехать свидетельствовать в пользу обвиняемого; написал в его защиту статью "По поводу заключения В.А. Молочникова", впервые с цензурными купюрами опубликованную в газете "Слово" (№ 520 от 27 июля 1908 г.). "Сейчас получил, – писал Толстой Н.В. Давыдову, – очень огорчившее меня известие… о том, что Молочников… присужден к заключению в крепости на год… Жалею, что отговорили меня от защиты…"121 Писатель использовал мысль Молочникова в книге "На каждый день (Учение о жизни, изложенное в изречениях)": "Для того чтобы пуля достигла цели, ей нужно проходить через тесное, с нарезками дуло ружья. То же и с тем, что живет в человеке. Оно проходит чрез сильные страдания телесного бытия, и чем больше эти страдания, тем вернее и скорее достигнет цели"122.
По свидетельству современников, Толстой любил Молочникова. Несмотря на слабое здоровье в последние годы жизни, написал ему более 40 писем, в которых чаще всего называет ученика "милый друг Владимир" или "Брат Владимир". Сам Молочников написал замечательное письмо Петру Аркадьевичу Столыпину, в котором предсказал победу революции и предложил правительству эволюционный путь разрешения кризиса, в частности проект земельной реформы. Толстой писал об этом письме 31 декабря 1907 г. Д.А. Олсуфьеву: "Письмо очень хорошее и очень тронуло меня. Мне всей душой стало жалко Столыпина за ту, наверно, мучительную для него деятельность…"123 Кажется, единственный раз в письмах к Молочникову (по его инициативе) обсуждалась еврейская тема, причем богословская. Молочников, прочитав перевод книги М. Арнольда "Literature and dogma", вышедший в издательстве "Посредник" под названием "В чем сущность христианства и иудейства?" (М., 1908), писал Л.Н. из тюрьмы в Старой Руссе, что не разделяет мнения автора относительно преемственности христианства и иудейства. Толстой был с ним солидарен: "Я не согласен с Арнольдом в его утверждении, что христианство выросло из еврейства. Я полагаю, что христианство только исторически соединено с еврейством. Основные религиозные истины – одни и те же во всех верах: и в Ведах, и у Зороастра, и в буддизме, и у Конфуция, и у Лао-Тзе, и в библии" (письмо от 8 января 1909 г.)124.
Здесь интересен не только антиисторический подход к вопросу (хотя Толстой указывает на историческую связь двух религий), но и то, что слово "Библия", написанное со строчной буквы, помещено в конце ряда. Молочников еще до знакомства с писателем принял святое крещение. Он так писал об этом в своих воспоминаниях: «Родился я в маленьком русском городке в бедной еврейской семье, в которой оставался до 6-летнего возраста. Затем меня перевезли в Петербург, где мой старый отец умер в больнице, оставив молодую красивую жену, мою мать. После этого мать оставила меня почти на произвол судьбы. Внушенное окружающими еврейство, с его материальными верованиями (курсив мой. – С. Д.), держалось во мне по привычке, но все же настолько крепко, что я не поддавался уговорам принять православие, к которому я испытывал внушенное мне отвращение. Священники в ризах, иконы – все это казалось мне сплошным идолопоклонством. Но позднее, когда мне было около 22 лет, я прочел послесловие к "Крейцеровой сонате" и подумал: "Так вот что такое христианство!" и согласился с уговорами друзей и дал согласие на "крещение". Главы "Анны Карениной", где описывается, как Левин обрел простую мужицкую веру, тоже содействовали этому. Не стану описывать подробностей совершенного надо мной обряда; потом только, год спустя, мне рассказали, как, подойдя к лежащей иконе, которую крестный отец – подрядчик – предназначил мне, я, потрогав ее, сказал: "Не было Бога, да и это не Бог»125. Да, непросто дается ренегатство…
Григорий Моисеевич Беркенгейм (1872-1919), близкий знакомый семьи Толстого, врач-педиатр, в 1903-1904 гг. домашний врач в Ясной Поляне. Один из тех, кто был рядом с Толстым в Астапово до конца его дней, оставил об этом воспоминания126. Будучи человеком образованным, Беркенгейм выполнял и секретарские обязанности – отвечал на письма, принимал "опасных" (непредсказуемых) посетителей, читал вслух и т. д.
В одном из писем Толстой благодарит его за присылку необходимого ему для предстоящей работы материала, относящегося ко времени правления Александра I. "Все помнят и любят вас", – читаем в конце письма. Не менее лестные слова содержатся в приписке к письму дочери от 5 октября 1903 г.: "Григор[ия] Моисеевича] gagne а кtre connu" (чем больше узнаешь, тем больше его ценишь)127. Именно в период тяжелой болезни (как сам Толстой считал – последней) в августе 1908 г., когда его самоотверженно лечил Григорий Моисеевич, Толстой счел нужным спросить Маковицкого по-немецки, не начинает ли он любить евреев. Маковицкий ответил уклончиво: "…немного начинаю их любить".
Далее идет не совсем понятная фраза, объясняющая причину изменения взгляда – Маковицкий сравнивает положение дореформенных крестьян с нынешним положением евреев128.
Очень любопытно отношение Толстого к делу Дрейфуса. Нет, он не встал в ряды антидрейфусаров, но сам Альфред Дрейфус был ему мало симпатичен. "Мало симпатичен" – это натяжка, писатель почти не интересовался судом, его раздражали пресса, раздувшая дело, и активное участие еврейства в защите соплеменника. В критическом очерке Толстого "О Шекспире и о драме" (1903-1904) неожиданно появляется абстрактный Дрейфус – по Толстому, объект спекуляций двух партий; вопроса невиновности несчастного капитана Толстой даже не касается. Та же отстраненность в одном частном письме. И резюме в разговоре: "Я задумывался над тем, почему несправедливость по отношению к Дрейфусу волнует людей, а ужасы, совершаемые в дисциплинарных батальонах и тюрьмах… нет. Их не видят, не знают о них"129. Толстой словно не понимает, что торжество справедливости по отношению к одному невиновному способствует разоблачению других преступлений. В отличие от Толстого А.П. Чехов порвал с Сувориным из-за позиции последнего по делу Дрейфуса.
В разговорах Толстого с близкими и друзьями довольно часто проскальзывало недоброжелательство к еврейству – к этому нахальному, истеричному, подвижному субстрату, постоянно спешащему во всем преуспеть, обнаружить свои способности и достоинства. Собственно, с примеров такого недоброжелательства я начал свой рассказ "О Льве Николаевиче, Семене Яковлевиче и других…" Г.М. Барац в уже упоминавшейся книге "Толстой и евреи" комментирует следующий эпизод из жизни обитателей яснополянского дома. Дочь Толстого Александра Львовна совершала прогулку с пианистом А.Б. Гольденвейзером. По дороге им было нужно подняться на небольшой холм. Гольденвейзер взбежал на холм, после чего упал и потерял сознание. За вечерним чаем Александра Львовна поведала собравшимся за столом о досадном "приключении" во время прогулки. "Все это произошло оттого, – сказал Лев Николаевич, – что евреи стремятся всегда и везде быть первыми". (Гольденвейзер был наполовину евреем и вполне православным человеком). Комментарий Бараца: "Я не верил своим глазам, читая эти слова, и мне стало… стыдно за великого Толстого, так легкомысленно – и к тому же совершенно некстати, ни к селу, ни к городу – повторявшего нелепое, банальное и затасканное измышление самых неумных юдофобов"130.
Впрочем, расхожий штамп иногда "прилагался" и вовсе не к еврею. Вот мнение Толстого о Достоевском в передаче М. Горького: "О Достоевском он говорил неохотно, натужно, что-то обходя, что-то преодолевая". Считал его "человеком буйной плоти", который "чувствовал многое, а думал плохо, он у этих, у фурьеристов, учился думать, у Буташевича и других. Потом ненавидел их всю жизнь.
В крови у него было что-то еврейское (курсив мой. – С. Д.). Мнителен был, самолюбив, тяжел, несчастен"131. Ясно, что объективно или субъективно (в данном случае это неважно) Толстой воспринимал Достоевского как мнительного, самолюбивого – одним словом, придуманного им еврея. При некотором допущении в этой характеристике Федора Михайловича можно обнаружить качества, свойственные самому Толстому: буйство крови, самолюбие и т. д., а значит, и себя ему следовало бы считать евреем, – конечно же, мудрым евреем. Примерно таким, каким его однажды увидел М.С. Сухотин: «Сидит он [Л.Н.] в кресле в халате, очень нарядном… шелковая скуфья на голове, очень напоминает грим какого-то актера в роли еврея (курсив мой. – С. Д.) не то из "Уриель Акосты", не то из "Ami Fritz"»132.